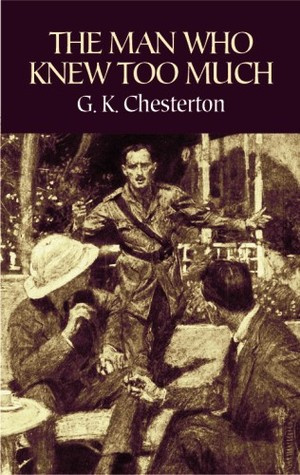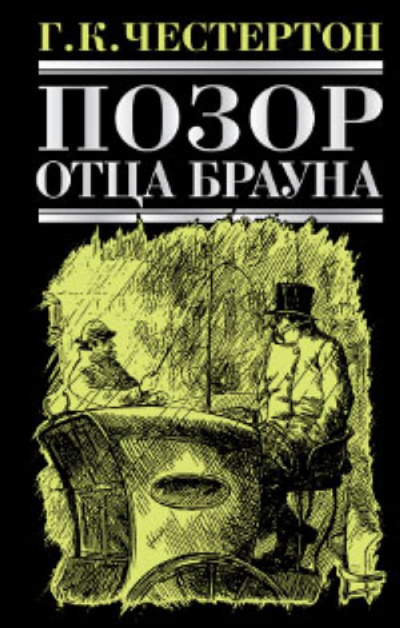Читать книгу "Что не так с этим миром - Гилберт Кийт Честертон"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Конечно, я имею в виду, что не был осужден сам католицизм, хотя множество католиков предстали перед судом и были признаны виновными. Суть в том, что мир устал не от идеала церкви, а от ее реальности. Монашество ставилось под сомнение не по причине целомудрия монахов, а из-за их распутства. Христианство стало непопулярно не из-за смирения, а из-за высокомерия христиан. Конечно, если церковь потерпела неудачу, то в значительной степени благодаря самим церковникам. Но в то же время враждебные элементы, несомненно, принялись подтачивать ее задолго до того, как церковь смогла сделать свое дело. По самой ее природе ей требовалась общность жизни и мышления в Европе. И все же средневековая система начала интеллектуально ломаться задолго до того, как появились первые признаки ее морального распада. У широких еретических движений, как, например, у альбигойцев[55], не было ни малейшего морального превосходства. И действительно, Реформация[56] начала рвать Европу на части до того, как Католическая Церковь успела ее объединить. Например, пруссаки были крещены накануне Реформации. Бедняги едва успели стать католиками, а им уже было велено обратиться в протестантство. Этим в значительной мере объясняется их дальнейшее поведение. Но я привожу лишь первый и наиболее очевидный пример общей истины: великие идеалы прошлого потерпели неудачу не как пережиток (то есть не зажившись на этом свете), а едва начав жить. Человечество не прошло через Средневековье, скорее человечество отступило от Средневековья, громя все вокруг. Христианский идеал не был опробован и признан несостоятельным. Он был признан трудным и остался неопробованным.
Это, конечно, относится и к Французской революции. Большая часть наших нынешних недоразумений проистекает из того факта, что Французская революция наполовину была успешной, а наполовину – провальной. С одной стороны, решающей битвой на Западе было сражение при Вальми[57], а с другой – сражение у мыса Трафальгар[58]. Мы действительно уничтожили крупнейшие территориальные тирании и создали свободное крестьянство почти во всех христианских странах, кроме Англии, о чем мы еще поговорим. Но представительная демократия, единственная универсальная для всех современных стран реликвия Революции, представляет собой лишь мелкий фрагмент цельной республиканской идеи. Теория Французской революции предполагала две идеи о правительстве, идеи, которые она сумела претворить в жизнь в свое время, но которые она, конечно, не завещала своим подражателям в Англии, Германии и Америке. Первой была идея благородной бедности, согласно которой государственный деятель должен быть кем-то вроде стоика; второй – идея максимальной гласности. Многие английские писатели с хорошим воображением, включая Карлайла, совершенно неспособны понять, как это такими людьми, как Робеспьер и Марат, могли так страстно восхищаться. Лучший ответ таков: ими восхищались за то, что они были бедны – бедны, хотя имели возможность обогатиться.
Никто не станет утверждать, будто подобный идеал существует в высшей политике нашей страны. Наши национальные претензии на политическую неподкупность фактически основаны на противоположном аргументе – на теории, будто у состоятельных людей на гарантированных должностях не будет соблазна участвовать в финансовых махинациях. Я сейчас не задаю вопрос, полностью ли подтверждает эту теорию история английской аристократии, от разграбления монастырей до захвата шахт, но определенно наша теория твердит, что богатство будет защитой от политической коррупции. Английский государственный деятель подкуплен заранее, чтобы его не могли подкупить. Он родился с серебряной ложкой во рту, поэтому в его кармане не будут найдены чужие серебряные ложки. Наша вера в защиту со стороны плутократии так сильна, что мы все больше и больше вверяем нашу империю в руки семей, которые наследуют богатство без аристократической крови и аристократических манер. Некоторые из наших политических домов – выскочки по происхождению; они наследуют пошлость как свой герб. О многих современных государственных деятелях не скажешь, что они родились с серебряной ложкой во рту – скорей уж с серебряным ножом. Но все это только иллюстрирует английскую теорию, будто бедность опасна для политика.
То же самое выйдет, если сравнить сложившуюся ситуацию с революционной легендой о гласности. Старая демократическая доктрина гласила: чем больше света проникает во все государственные департаменты, тем легче праведному гневу противостоять неправде. Другими словами, монархи должны были жить в стеклянных домах, дабы толпа могла бросать в них камни. Опять же, ни один поклонник существующей английской политики (если таковой имеется) не скажет, что этот идеал публичности исчерпал себя или хотя бы был испробован. Очевидно, что публичная жизнь с каждым днем становится все более частной. Французы действительно продолжили традицию раскрытия секретов и раздувания скандалов; следовательно, они отчаяннее и дерзновеннее нас – не в грехе, а в исповедании греха. Первый суд над Дрейфусом[59] мог произойти в Англии, но второй процесс был бы юридически невозможен. На самом деле, если мы хотим понять, как далеко мы отошли от первоначального республиканского плана, самый точный способ проверить это – измерить, насколько мы не дотягиваем даже до республиканских элементов старого режима. Мы не только менее демократичны, чем Дантон[60] и Кондорсе[61], но во многих отношениях мы менее демократичны, чем Шуазёль[62] и Мария-Антуанетта[63]. Самые богатые дворяне до революции были бедняками из среднего класса по сравнению с нашими Ротшильдами[64] и Роузбери. И в том, что касается гласности, старая французская монархия была гораздо более демократической, чем любая из современных монархий. Практически любой, кто хотел, мог войти во дворец и увидеть, как король играет со своими детьми или грызет ногти. Люди обладали монархом, как люди обладают Примроуз-Хилл[65]: они не могут сдвинуть парк с места, но могут по нему прогуливаться. Старая французская монархия была основана на превосходном принципе, согласно которому кошка имеет право смотреть на короля. Но в наши дни кошка не может посмотреть на короля, если только это не его ручная кошка. Даже там, где пресса свободна, она используется только для лести. Вот в чем существенная разница: тирания восемнадцатого века означала, что вы могли бы сказать «К. Б. – распутник». Свобода двадцатого века в действительности означает, что вы можете сказать: «Король Брентфорда – примерный семьянин».
Но мы слишком долго откладывали главный аргумент, пока доказывали второстепенный пункт: что и великая демократическая мечта, подобно великой средневековой мечте, в строгом и практическом смысле осталась невоплощенной. В чем бы ни заключалась проблема современной Англии, причина точно не в том, что мы слишком буквально осуществили и с разочаровывающим совершенством воплотили католицизм Беккета
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Что не так с этим миром - Гилберт Кийт Честертон», после закрытия браузера.