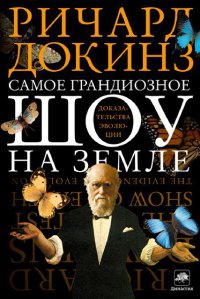Читать книгу "Слепой часовщик. Как эволюция доказывает отсутствие замысла во Вселенной - Ричард Докинз"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Итак, перед нами пример стазиса. Как нам к нему относиться? Как объяснить его? Некоторые из нас сказали бы, что ряд поколений, предшествовавших современной латимерии, не менялся, потому что естественный отбор не менял его. В каком-то смысле у животных не было “необходимости” эволюционировать, поскольку они сумели успешно приспособиться к жизни на больших глубинах, где условия не слишком изменились. Возможно, им никогда не доводилось участвовать в гонках вооружений. Тех их родственников, которые вышли на сушу и столкнулись там с различными неблагоприятными условиями, в частности с гонкой вооружений, вынудил эволюционировать естественный отбор. Другие биологи, в том числе и некоторые из тех, кто называет себя пунктуалистами, сказали бы, вероятно, что данный ряд поколений активно сопротивлялся эволюционным изменениям, как бы ни менялось при этом давление отбора. Кто же тут прав? В случае с Latimeria сказать трудно, однако существует способ, с помощью которого в принципе можно было бы приблизиться к разгадке.
Давайте объективности ради не будем зацикливаться на латимерии. Это пример впечатляющий, но совсем уж экстремальный — не из тех, на которые всерьез намерены полагаться пунктуалисты. Их убеждение состоит в том, что не столь выдающиеся, менее продолжительные периоды стазиса являются обычным делом и, более того, нормой, поскольку у видов имеются такие генетические механизмы, которые активно противятся изменениям даже при наличии движущих импульсов со стороны естественного отбора. Пусть не во всех конкретных случаях, но в принципе мы можем проверить эту гипотезу при помощи очень простого эксперимента. Мы сами можем воздействовать на дикие популяции силами отбора. Если гипотеза верна и виды активно сопротивляются переменам, то мы обнаружим, что в ответ на наше стремление провести селекцию по какому-либо признаку они, так сказать, упрутся рогом и будут отказываться тронуться с места — по крайней мере какое-то время. К примеру, взявшись за выведение более удойных коров, мы потерпим неудачу. Генетическая система вида мобилизует все свои антиэволюционные механизмы и отразит наши посягательства на ее неизменность. Если мы попытаемся путем селекции повысить яйценоскость у кур, то потерпим неудачу. Если тореадоры ради целей своего отвратительного “спорта” возьмутся выводить более отважных быков, у них ничего не получится. Разумеется, все эти неудачи будут временными. В конце концов подобно рушащейся под напором воды плотине предполагаемые антиэволюционные силы будут низвергнуты, и популяция стремительно перейдет в новое состояние равновесия. Но на самых первых этапах искусственного отбора мы должны будем столкнуться хотя бы с некоторым сопротивлением.
На самом деле, конечно же, пытаясь направить эволюцию путем скрещивания животных или растений в искусственных условиях, никаких неудач мы не терпим. И с затруднениями на первоначальном этапе селекции тоже не сталкиваемся. Как животные, так и растительные виды сразу же реагируют на искусственный отбор, и селекционерам неведомы никакие присущие всему живому антиэволюционные силы. Если уж на то пошло, трудности начинаются потом — после многих поколений успешной селекции. Связано это с тем, что искусственный отбор постепенно исчерпывает всю имеющуюся в наличии наследственную изменчивость, и тогда приходится ждать новых мутаций. Теоретически возможно, что целаканты прекратили эволюционировать, потому что перестали мутировать — например, из-за того, что глубоководный образ жизни защищает их от космических лучей. Кто знает! Но, насколько мне известно, никто никогда не рассматривал это предположение всерьез, и пунктуалисты, говоря о том, что видам свойственно сопротивляться эволюционным изменениям, имеют в виду уж точно не это.
То, что они имеют в виду, ближе к мысли о “сотрудничестве” генов, которую я высказывал в главе 7: гены, объединившиеся в группы, настолько хорошо “притерты” друг к другу, что это препятствует вторжению новых мутантных генов, не являющихся “членами клуба”. Это довольно-таки замысловатая идея, и ее можно довести до ума, чтобы она выглядела правдоподобно. Собственно, в какой-то мере именно на нее опирается уже упоминавшаяся здесь майровская концепция инертности крупных популяций. Тем не менее тот факт, что селекционное разведение организмов никогда не сталкивалось с первоначальным “сопротивлением материала”, склоняет меня к предположению, что, если в течение многих поколений вид не меняется, это говорит не о том, что он противодействует переменам, а о том, что им не благоприятствует естественный отбор. Виды не меняются, потому что те особи, форма которых соответствует устоявшемуся образцу, выживают лучше особей, имеющих какие-либо отклонения.
Итак, на самом деле пунктуалисты — точно такие же градуалисты, как Дарвин или как любой другой дарвинист. Просто в промежутки между энергичными рывками постепенной эволюции они помещают продолжительные периоды стазиса. Как я уже говорил, в одном аспекте пунктуализм действительно отличается от прочих направлений дарвинизма: он придает феномену стазиса большое значение, объясняя его активным сопротивлением эволюционным изменениям, а не просто их отсутствием. И это тот аспект, в котором пунктуалисты, по всей видимости, ошибаются. Теперь нам остается только развеять тайну, почему они считали себя столь далекими от Дарвина и от неодарвинизма.
Все дело в том, что у слова “постепенный” есть два значения. Их часто путают, и с этой путаницей связана другая путаница — между пунктуализмом и сальтационизмом, — которую мне стоило немалых усилий разъяснить здесь и которая на бессознательном уровне присутствует в умах многих людей. Дарвин был убежденным противником сальтационизма и потому непрестанно подчеркивал чрезвычайную плавность постулируемых им эволюционных преобразований. Сальтация означала для него то же самое, что я называю “мутациями по типу “Боинга-747”: возможность появления новехоньких сложных органов по одному взмаху генетической волшебной палочки. Как если бы полностью сформированные, сложно устроенные и исправно функционирующие глаза возникли на месте голой кожи за одно поколение, подобно тому как Афина Паллада появилась из головы Зевса. Дарвин понимал сальтацию так, а не иначе, поскольку именно так понимали ее некоторые из его наиболее влиятельных оппонентов, по мнению которых она действительно была основным фактором эволюции.
Например, герцог Джон Аргайл соглашался с доводами в пользу существования эволюции, но хотел пронести божественное творение контрабандой с черного хода. И в этом стремлении он был не одинок. Не веря в раз и навсегда сотворенный Эдем, многие мыслители викторианской эпохи полагали, что божество все же вмешивалось время от времени — в самые ключевые моменты эволюции. Считалось, что такие сложные органы, каким является глаз, возникли мгновенно, из ничего, а не путем плавной, постепенной эволюции из более примитивно устроенных предшественников, как это сумел понять Дарвин. Эти авторы справедливо отдавали себе отчет в том, что их мгновенная “эволюция”, имей она место в действительности, не смогла бы обойтись без того сверхъестественного вмешательства, в которое они верили. Причины, почему это так, имеют статистический характер. Я уже говорил о них в связи с ураганами и “Боингами-747”. Подобный сальтационизм есть в сущности не что иное, как разбавленный креационизм. И наоборот, божественное творение — это наивысшая форма сальтации, единый огромный скачок от неодушевленной глины к полностью сформированному человеку. Дарвин тоже осознавал это. В письме к сэру Чарльзу Лайелю, крупнейшему геологу того времени, он писал:
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Слепой часовщик. Как эволюция доказывает отсутствие замысла во Вселенной - Ричард Докинз», после закрытия браузера.