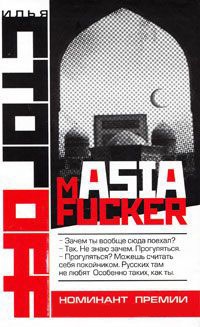Читать книгу "Дети мои - Гузель Яхина"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– Грязно в доме, – сурово сказал Васька, поднимаясь на ноги. – Запустили без меня хозяйство.
За лето он окреп, хотя и не прибавил в росте. Голос его стал ниже и глуше; лицо обветрилось, почернело от солнца; отросшие волосы были увязаны на затылке в косу, придавая мальчику совершенно взрослый вид.
Анче дернулась, соскочила с Баховых рук; бросилась к Ваське, но обнять не решилась – замерла в полушаге.
– Ва-ся! – сказала отчетливо. – Ва-ся!
– Да уж не господь бог, – подтвердил тот, сгребая мусор в совок.
– Ва-ся, – повторяла Анче. – Вася. Вася. Вася…
23
И снова стали жить – втроем.
Васька больше не уходил – так и остался на хуторе, не спросив разрешения и никак не объяснив свое многомесячное отсутствие, словно был здесь полновластным хозяином. Спать лег на лавке у печи. Ни еды, ни чистой одежды, ни подушки с одеялом не попросил, а когда получил их от Баха, взял без благодарности, как причитающееся. В кухонном шкафу Бах обнаружил позже несколько слипшихся плиток шоколада, почему-то обернутых в рваную шелковую наволочку; а на комоде – кипу незнакомых пластинок в засаленных конвертах, некоторые – с треснутыми краями и исцарапанными звуковыми дорожками, все – с записями немецких стихов и песен.
Сам Васька изменился за лето. На лице у него прибавился шрам (короткая белая отметина сияла на темном лбу, аккурат меж черных бровей, как нанесенная мелом) и окривела спинка приплюснутого носа, вероятно, перебитая в драке. Тело стало крепче и шире в кости, движения – аккуратнее, мимика – скупее; весь он словно подобрался и возмужал – сквозь мальчишескую легкость уже проглядывали степенность и основательность. Он принадлежал к тем подросткам, чей облик рано обретает взрослые черты, а невысокий рост затрудняет определение возраста: со спины его легко было принять за малолетку, в то время как суровое монгольское лицо могло принадлежать и юноше. Рядом с коренастым Васькой подросшая за лето Анче смотрелась нескладно и по-детски беззащитно, хотя и была теперь немного выше.
Бах не знал, как отнестись к этому внезапному возвращению. И к этому странному мальчику как относиться – тоже не знал. Казалось, был Васька прост – как рыболовный крючок из железа, как ведро с водой или серый волжский булыжник: дашь еды – ест, не дашь – сам возьмет; поручишь работу – отлынивает, а накажешь за леность – выполнит; станет ему худо – орет, а станет хорошо – завалится на лавку и дрыхнет без просыпу, хоть из пушки пали. Но было в нем что-то, какая-то потайная душевная складка, за которой скрывалось невидимое и тщательно обороняемое от других – то, чего сам Васька, похоже, боялся или стыдился. Эти едва ощутимые зачатки человечности, иногда мелькавшие сквозь звероватые повадки, и примиряли Баха с мальчиком.
Когда Васька, старательно шевеля обветренными губами, в сотый раз тыкал пальцем в какой-нибудь предмет и произносил его название – громко, чтобы Анче разобрала каждый звук, – Бах готов был обнять его в порыве благодарности. Когда минутой позже тот же самый Васька хрюкал для забавы и скреб пятерней живот, а Анче хрюкала и почесывалась в ответ, – Бах едва удерживался, чтобы не вышвырнуть обоих за дверь.
Когда вечерами – как только граммофон выставлялся на стол, а из комода вынимались уже порядком заезженные пластинки – Васька приклеивался глазами к дрожанию иглы и жадно впитывал строфы Гёте и Шиллера, Бах теплел душой. Но стоило Баху перевести взгляд на Анче, забавлявшуюся исключительно игрой света на крутящихся дисках, как тотчас хотелось разбить и эти пластинки, и этот граммофон и выгнать прочь нахаленка, чувствовавшего величие немецкой поэзии даже не понимая смысла – в отличие от родной девочки.
Когда Анче хохотала над Васькиными проказами и смотрела на него счастливыми, влажными от смеха глазами – Бах млел от радости. Когда же поутру, едва проснувшись, она бежала не к Баху, а к печной лавке и ждала Васькиного пробуждения – Бах тосковал по прежним дням, по уединенной жизни вдвоем.
* * *
Борьба, что началась с первого появления мальчика на хуторе, с новой силой продолжилась теперь, после его возвращения. Борьба, которая растянется на годы и исход которой был предопределен: старший обречен проиграть, а младший – выиграть. Борьба за Анче.
На стороне Васьки было все: молодость, душевное веселье, беспрестанно моловший всякую чушь язык; в конце концов – сама Анче. На стороне Баха никого не было, только он сам, один.
Более мудрая часть его души уже признавала будущее поражение и даже соглашалась с ним. Но другая часть – о нет! – другая часть намеревалась биться отчаянно и если не победить, то как можно более продлить эту схватку: ее продолжительностью измерялся теперь отпущенный Баху остаток совместной жизни с Анче.
Первый удар нанес – даже сам того не подозревая – Васька. С его возвращением многое, что только еще дремало и вызревало в Анче, внезапно пробудилось и расцвело – за пару дней ее точно вывернули наизнанку: взгляд наполнился радостью от обретения долгожданного друга, но – и незнакомой дерзостью, и удалью, и бесшабашностью; на лице вместе с выражением удовольствия возникали новые гримаски – хитрости и озорства, беззаботной мальчишеской лихости, временами даже паясничанья. Движения рук стали размашистей и резче, плечи расправились и в то же время будто разболтались в суставах. Даже голова обрела какую-то иную, независимую посадку: то и дело откидывалась назад и с вызовом глядела вокруг, словно обозревая окружающий мир с высоты не маленького детского тела, а длинного взрослого. Нет, Анче не копировала сознательно Васькину походку и жесты, не старалась повторить движения – Васька прорастал в ней сам, естественно и необратимо.
Через неделю после его возвращения она, вспомнив игры с кухонным ножом, уже метала тот нож в дерево – и попадала ровно в середину намалеванной грязью отметины (в отличие от самого Васьки, который нередко мазал). Через две – знатно плевалась, ничем не уступая учителю в меткости плевка. Через три недели Бах заметил, как в одной из дружеских потасовок Анче впервые одолела Ваську – села на него верхом и долго не давала встать, хохоча и тыкая лицом в землю, пока тот, разозлившись всерьез, не заорал в полный голос.
Чем-то это даже нравилось Баху: ее внезапная сила и ловкость, жажда новых умений и яростная готовность овладевать ими, неустанное стремление к победе – то, чего Бах был лишен с рождения и чему сам никогда не смог бы научить Анче, – все эти черты проснулись нынче в ней, как непременно просыпается по весне затерянное в земле зерно. Но стремительность произошедшей метаморфозы страшила: как же огромна была власть над Анче немытого приблудыша с раскосыми глазами! И как ничтожно влияние самого Баха!
Нужно было как-то задержать, затормозить эту быструю перемену. Бах решил использовать средство, которое помогло ему когда-то справиться с приблудышем, – труд. Тяжелый труд – до усталости, до ломоты в конечностях и отсутствия мыслей в голове – вот верное средство от многих бед. В том числе – и от быстрого взросления.
Работы на хуторе всегда было невпроворот, и Бах начал поручать детям задачи, которые до этого считал уделом взрослых: он учил их рубить лес, ловить в силки птиц, смолить ялик, чинить соломенную крышу, белить известью шершавые яблоневые стволы в начале года и кутать ветошью и камышом – в конце. Рассудил: если его немой язык не умеет научить их жизни – пусть научат сад и лес. Пусть яблоневый цвет не дает Анче забыть о нежности и трепетности, неподатливая древесина дубов и кленов – душевной твердости, вязкая смола – верности, легкая солома – простоты и смирения, глина – гибкости, а смена времен года – прочих законов жизни.
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Дети мои - Гузель Яхина», после закрытия браузера.