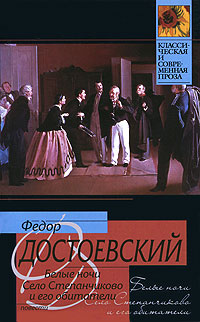Читать книгу "Униженные и оскорбленные - Федор Достоевский"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Один раз он заговорил, что надо оставить ей денег на всевремя его отъезда и чтоб она не беспокоилась, потому что отец обещал ему датьмного на дорогу. Наташа нахмурилась. Когда же мы остались вдвоем, я объявил,что у меня есть для нее сто пятьдесят рублей, на всякий случай. Она нерасспрашивала, откуда эти деньги. Это было за два дня до отъезда Алеши инакануне первого и последнего свидания Наташи с Катей. Катя прислала с Алешейзаписку, в которой просила Наташу позволить посетить себя завтра; причем писалаи ко мне: она просила и меня присутствовать при их свидании.
Я непременно решился быть в двенадцать часов (назначенныйКатей час) у Наташи, несмотря ни на какие задержки; а хлопот и задержек быломного. Не говоря уже о Нелли, в последнее время мне было много хлопот уИхменевых.
Эти хлопоты начались еще неделю назад. Анна Андреевнаприслала в одно утро за мною с просьбой бросить все и немедленно спешить к нейпо очень важному делу, не терпящему ни малейшего отлагательства. Придя к ней, язастал ее одну: она ходила по комнате вся в лихорадке от волнения и испуга, стрепетом ожидая возвращения Николая Сергеича. По обыкновению, я долго не могдобиться от нее, в чем дело и чего она так испугалась, а между тем, очевидно,каждая минута была дорога. Наконец, после горячих и ненужных делу попреков:«зачем я не хожу и оставляю их, как сирот, одних в горе», так что уж «бог знаетчто без меня происходит», – она объявила мне, что Николай Сергеич в последниетри дня был в таком волнении, «что и описать невозможно».
– Просто на себя не похож, – говорила она, – в лихорадке, поночам, тихонько от меня, на коленках перед образом молится, во сне бредит, анаяву как полуумный: стали вчера есть щи, а он ложку подле себя отыскать неможет, спросишь его про одно, а он отвечает про другое. Из дому стал поминутноуходить: «все по делам, говорит, ухожу, адвоката видеть надо»; наконец, сегодняутром заперся у себя в кабинете: «мне, говорит, нужную бумагу по тяжебному делунадо писать». Ну, какую, думаю про себя, тебе бумагу писать, когда ложку подлеприбора не мог отыскать? Однако в замочную щелку я подсмотрела: сидит, пишет, асам так и заливается-плачет. Какую же такую, думаю, деловую бумагу так пишут?Али, может, ему уж так Ихменевку нашу жалко; стало быть, уж совсем пропала нашаИхменевка! Вот думаю я это, а он вдруг вскочил из-за стола да как ударит перомпо столу, раскраснелся, глаза сверкают, схватился за фуражку и выходит ко мне.«Я, говорит, Анна Андреевна, скоро приду». Ушел он, а я тотчас же к его столикуписьменному; бумаг у него по нашей тяжбе там пропасть такая лежит, что уж онмне и прикасаться к ним не позволяет. Сколько раз, бывало, прошу: «Дай ты мнехоть раз бумаги поднять, я бы пыль со столика стерла». Куды, закричит, замашетруками: нетерпеливый он такой стал здесь в Петербурге, крикун. Так вот я кстолику-то подошла и ищу: которая это бумага, что он сейчас-то писал? Потомудоподлинно знаю, что он ее с собой не взял, а когда вставал из-за стола, то поддругие бумаги сунул. Ну вот, батюшка, Иван Петрович, что я нашла, посмотри-ка.
И она подала мне лист почтовой бумаги, вполовину исписанный,но с такими помарками, что в иных местах разобрать было невозможно.
Бедный старик! С первых строк можно было догадаться, что и ккому он писал. Это было письмо к Наташе, к возлюбленной его Наташе. Он начиналгорячо и нежно: он обращался к ней с прощением и звал ее к себе. Трудно былоразобрать все письмо, написанное нескладно и порывисто, с бесчисленнымипомарками. Видно только было, что горячее чувство, заставившее его схватитьперо и написать первые, задушевные строки, быстро, после этих первых строк,переродилось в другое: старик начинал укорять дочь, яркими красками описывал ейее преступление, с негодованием напоминал ей о ее упорстве, упрекал вбесчувственности, в том, что она ни разу, может быть, и не подумала, чтосделала с отцом и матерью. За ее гордость он грозил ей наказанием и проклятиеми кончал требованием, чтоб она немедленно и покорно возвратилась домой, итогда, только тогда, может быть, после покорной и примерной новой жизни «внедрах семейства», мы решимся простить тебя, писал он. Видно было, чтопервоначальное, великодушное чувство свое он, после нескольких строк, принял заслабость, стал стыдиться ее и, наконец, почувствовав муки оскорбленнойгордости, кончал гневом и угрозами. Старушка стояла передо мной, сложа руки и встрахе ожидая, что я скажу по прочтении письма.
Я высказал ей все прямо, как мне казалось. Именно: чтостарик не в силах более жить без Наташи и что положительно можно сказать онеобходимости скорого их примирения; но что, однако же, все зависит отобстоятельств. Я объяснил при этом мою догадку, что, во-первых, вероятно,дурной исход процесса сильно расстроил и потряс его, не говоря уже о том,насколько было уязвлено его самолюбие торжеством над ним князя и скольконегодования возродилось в нем при таком решении дела. В такие минуты душа неможет не искать себе сочувствия, и он еще сильнее вспомнил о той, которуювсегда любил больше всего на свете. Наконец, может быть и то: он, наверно,слышал (потому что он следит и все знает про Наташу), что Алеша скоро оставляетее. Он мог понять, каково было ей теперь, и по себе почувствовал, как необходимобыло ей утешение. Но все-таки он не мог преодолеть себя, считая себяоскорбленным и униженным дочерью. Ему, верно, приходило на мысль, что все-такине она идет к нему первая; что, может быть, даже она и не думает об них ипотребности не чувствует к примирению. Так он должен был думать, заключил я моемнение, и вот почему не докончил письма, и, может быть, из всего этогопроизойдут еще новые оскорбления, которые еще сильнее почувствуются, чемпервые, и, кто знает, примирение, может быть, еще надолго отложится...
Старушка плакала, меня слушая. Наконец, когда я сказал, чтомне необходимо сейчас же к Наташе и что я опоздал к ней, она встрепенулась иобъявила, что и забыла о главном. Вынимая письмо из-под бумаг, она нечаянноопрокинула на него чернильницу. Действительно, целый угол был залит чернилами,и старушка ужасно боялась, что старик по этому пятну узнает, что без негоперерыли бумаги и что Анна Андреевна прочла письмо к Наташе. Ее страх был оченьоснователен: уж из одного того, что мы знаем его тайну, он со стыда и досадымог продлить свою злобу и из гордости упорствовать в прощении.
Но, рассмотрев дело, я уговорил старушку не беспокоиться. Онвстал из-за письма в таком волнении, что мог и не помнить всех мелочей, итеперь, вероятно, подумает, что сам запачкал письмо и забыл об этом. Утешивтаким образом Анну Андреевну, мы осторожно положили письмо на прежнее место, ая вздумал, уходя, переговорить с нею серьезно о Нелли. Мне казалось, что беднаяброшенная сиротка, у которой мать была тоже проклята своим отцом, могла быгрустным, трагическим рассказом о прежней своей жизни и о смерти своей материтронуть старика и подвигнуть его на великодушные чувства. Все готово, всесозрело в его сердце; тоска по дочери стала уже пересиливать его гордость иоскорбленное самолюбие. Недоставало только толчка, последнего удобного случая,и этот удобный случай могла бы заменить Нелли. Старушка слушала меня счрезвычайным вниманием: все лицо ее оживилось надеждой и восторгом. Она тотчасже стала меня упрекать: зачем я давно ей этого не сказал? нетерпеливо началаменя расспрашивать о Нелли и кончила торжественным обещанием, что сама теперьбудет просить старика, чтоб взял в дом сиротку. Она уже начала искренно любитьНелли, жалела о том, что она больна, расспрашивала о ней, принудила меня взятьдля Нелли банку варенья, за которым сама побежала в чулан; принесла мне пятьцелковых, предполагая, что у меня нет денег для доктора, и. когда я их не взял,едва успокоилась и утешилась тем, что Нелли нуждается в платье и белье и что, сталобыть, можно еще ей быть полезною, вследствие чего стала тотчас же перерыватьсвой сундук и раскладывать все свои платья, выбирая из них те, которые можнобыло подарить «сиротке».
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Униженные и оскорбленные - Федор Достоевский», после закрытия браузера.