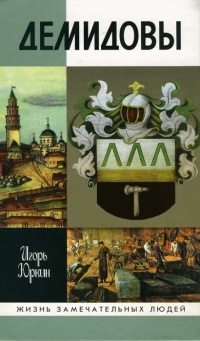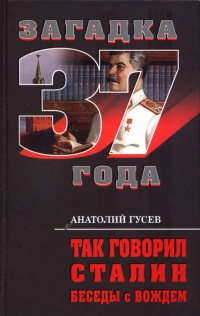Читать книгу "Карамзин - Владимир Муравьев"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
«Мысли о любви»
«Говорят, что писать о любви может только человек, воспламененный любовию. Но в таком страдательном состоянии человек не способен к соображениям: он не обладает свободою ума, необходимою для того, чтобы отделиться от своих ощущений, чтобы вникнуть в них, разобрать, разложить, видеть их цель, совокупность, оттенки. Подобно человеку, борящемуся со смертию в волнах быстрого потока и исполненному только одного чувства — чувства своей опасности, имеющему только одно желание — спастись своими усилиями, так точно любовник, в пылу своей страсти, чувствует только свою любовь, желает только соединения с своим предметом во всех отношениях. — Все способности его души, внимание, ум, рассудок уничтожены; его чувствительность обращена только в одну сторону: это — стремление к своей возлюбленной. Он боится размышления, оно прервало бы чувство, которое наполняет его сердце и в котором он живет, мертвый для всего остального. — Только тогда, когда он придет в себя, как буря страсти постепенно рассеется, он будет в состоянии говорить о силе любви, им испытанной, т. е. он постарается снять копию с отсутствующего оригинала, срисовать его на память. Копия может быть очень хороша, но ей все-таки будет недоставать чего-то, и даже многого, многого для совершенного сходства…
Кто же опишет нам любовь? Никто не может описать ее так, как она есть в сердцах восторженных любовников, с ее огнедышащей энергией, с ее сладостно-лихорадочным трепетом, — никто. — Но так много говорено о ней. — Да, именно потому, что никогда никто не мог сказать о ней все…
Рассмотрите все другие страсти: вопреки пышным названиям, которые дают их идолам, служение им оставляет в душе пустоту, доказывающую их недостаточность для нашего счастия, между тем как душа, любящая с природной своей силою, была бы совершенно счастлива, хотя осталась бы одна с предметом своей любви во всем мире, который обратился бы в бесконечную пустыню.
В объяснение блаженства будущей жизни говорят, что души наши найдут чистейшее наслаждение в вечном созерцании Бога. Любящие получают некоторое здесь понятие об этом блаженстве в удовольствии, которое они находят, поглощая друг друга взглядами. Что касается до прочих, то они не понимают ничего в этом объяснении…
О вы, горячие сердца, которые в своих чувствах находите подтверждение моим мыслям, страстные любовники, вы, умеющие в восторженных объятиях забывать даже презрение, которое заслуживают поносители вашего счастия! Вы будете всегда предметом моего поклонения: я буду приносить вам в жертву слезы моего сердца; я буду согревать его огнем вашего счастия. Может ли мнение людей холодных и порочных бросать какую-нибудь тень на ваши светозарные души? Могут ли эти низкие и злые создания препятствовать вашему святому союзу?
Вы любите друг друга, следовательно, благословение Неба над вами, вы супруги, и ничто не должно вас останавливать… Но земля, непокорная законам Неба, растворяется иногда между вами, и глубокие пропасти вас разлучают; минуйте их или погибайте вместе; вы избежите, по крайней мере, покушений злобы и вопреки ей будете еще счастливы. Так сладко умирать вместе с тем, кого любишь! Праведный и милосердный Бог открывает вам свое Отеческое лоно, вам, любезнейшим из его чад, потому что вы умели любить, и там, среди небесных духов, ваше счастие не будет иметь конца, потому что ваша любовь будет вечна… И если бы — безумное предположение — не было ни будущности, ни Бога, если бы все было мечтою и прахом… все же умрите: вы жили, вы вкусили самую чистую сладость жизни — вам нечего делать более в свете».
В конце 1799 года Карамзин как бы подводит черту под всеми своими романтическими историями:
«Не буду жаловаться на ветреность Амарилл моих, которые (слава Богу!) перепрыгнули от меня за ручей и скрылись в лесу. Пусть там гоняются за ними Сильваны, Фавны и простые Сатиры! Третьего дня исполнилось мне 35 лет от роду».
Впрочем, в это время им овладевает новое чувство, о котором он намекает в письме Дмитриеву: «В обстоятельствах моих сделалась некоторая перемена, и бедный друг твой часто грустит тихонько», — чувство к Елизавете Ивановне Протасовой, младшей сестре Настасьи Ивановны. О чувстве к нему Елизаветы Ивановны он уже после ее смерти скажет: «Она обожала меня».
В ночь с 11 на 12 марта 1801 года заговорщиками был убит Павел I и провозглашен императором его старший сын Александр.
Убийство Павла не было государственным политическим актом, но предприятием частных лиц, озабоченных своим личным благополучием. В том же личном, бытовом плане оно было воспринято тогдашним дворянским обществом. В то время численно небольшая, но все-таки существующая часть русского общества, которая имела политические взгляды того или иного направления, связывала с новым императором возможность изменений в государственной политической жизни России и строила свои предположения о них. Однако как общее впечатление, так и реакция на это событие несли на себе печать какого-то легкомыслия.
В Москве известие о смене императора было получено утром 15 марта.
На перекладных из Петербурга прискакали генерал князь С. Н. Долгоруков и бывший московский обер-полицмейстер П. Н. Каверин, во весь опор они пронеслись по Тверской до дома главнокомандующего. (Люди рассказывали, что они во время этого проезда «встречающихся как будто взорами поздравляли и приветствовали».) С главнокомандующим графом Салтыковым и другими главными должностными лицами Москвы проследовали в Кремль, в Успенский собор. Там был оглашен манифест о кончине Павла I и о воцарении Александра I и началась присяга новому императору.
Известие быстро распространилось по Москве. Вигель вспоминает радостную атмосферу этого дня: «Знакомые беспрестанно приезжали и уезжали, все говорили в одно время, все обнимались, как в день Светлого Воскресенья; ни слова о покойном; чтобы и минутно не помрачить сердечного веселия, которое горело во всех глазах; ни слова о прошедшем, все о настоящем и будущем…»
Вигель пишет о настроении первых дней нового царствования, о «восторгах», которыми приветствовали его «зарю», «весну», «все чувствовали какой-то нравственный простор, взгляды сделались у всех благосклоннее, поступь смелее, дыхание свободнее».
Естественно, первыми были отринуты внешние запретительные меры. «Первое употребление, которое сделали молодые люди из данной им воли, — рассказывает Вигель, — была перемена костюма: не прошло и двух дней после известия о кончине Павла, круглые шляпы явились на улицах; дня через четыре стали показываться фраки, панталоны и жилеты, хотя запрещение с них не было снято… К концу апреля кое-где еще встречались старинные однобортные кафтаны и камзолы и то на людях самых бедных».
За молодыми людьми последовали зрелые. «В апреле все пришло в движение, — продолжает Вигель. — Несмотря на распутицу, на разлитие рек, на время, самое неблагоприятное для путешествий, все дороги покрылись путешественниками: изгнанники спешили возвращаться из мест заточения, отставные или выключенные потянулись толпами, чтобы проситься в службу, весьма многие поскакали затем только в Петербург, чтобы полюбоваться царем. Исключая действительно порочных и виновных, все желавшие вступить в службу были без затруднения в нее принимаемы».
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Карамзин - Владимир Муравьев», после закрытия браузера.