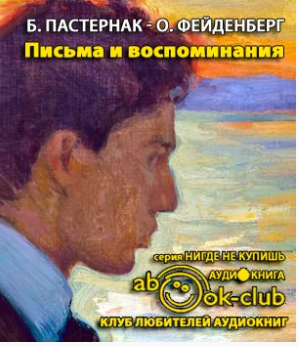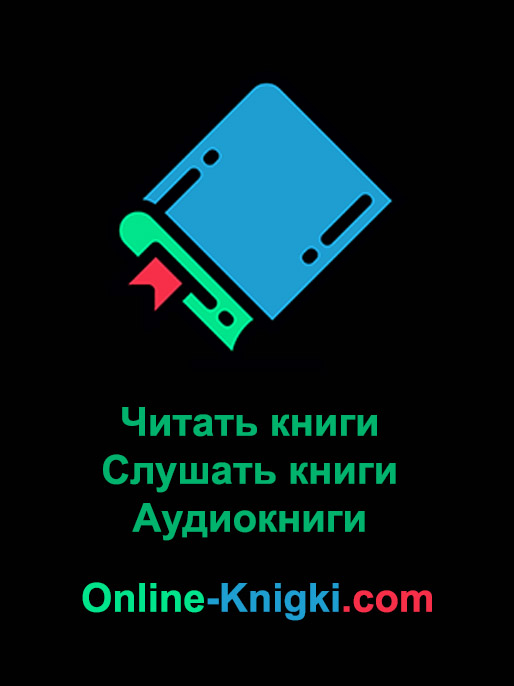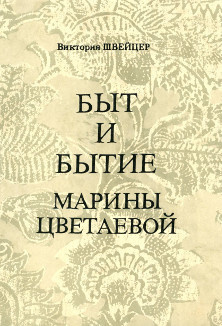Читать книгу "О БОРИСЕ ПАСТЕРНАКЕ. Воспоминания и мысли - Николай Николаевич Вильмонт"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Мне было искренне жаль его, и потому, вплотную к нему продвинувшись, я сказал полушепотом:
— С вами я не христосуюсь, просто целуюсь, — в ответ на что он благодарно обменялся со мной не положенным троекратным, а двукратным поцелуем.
— Спасибо вам, — произнес он сорвавшимся голосом и улыбнулся неожиданно мягко.
«Возведи окрест очи твои, Сионе», — пели на клиросе уже после крестного хода. Пели то же и так же, как тысячу лет назад, будто ничего не изменилось в мире и в этот «черный, голодный год», будто время таинственно пресуществилось в безвременье, сиречь не в то время, какое течет, а в то, что стоит недвижно и чрез сквозную сеть которого проходит и уплывает в извечное «не-бытие» [8] суета исторических происшествий, «…и виждь, се бо приидоша к тебе, — радостно и стройно гремел мужской хор, — яко богосветлая светила, от запада и севера, и моря, и востока чада твоя…» Царские врата во всех приделах стояли настежь открытые…
Мы вышли из храма под ликующий благовест больших, полновесных, и малых, звонкоголосых, колоколов всех костромских церквей. По Волге плыли, изредка лязгаясь друг о друга, запоздалые одинокие льдины с верховьев великой реки.
Красноармейцы (быть может, отчасти под влиянием {-31-} недавно заслушанного «Дома Телье») решили «разойтись по хозяйкам», мы же с Лацисом целомудренно зашагали к казарме, где вступили в долгую беседу. Того, что случилось в соборе, мы стыдливо не коснулись; зато Лацис подробно и с большой теплотой рассказал мне о своем недавнем детстве, о гибели отца, в прошлом фабричного мастера, о своей матери, бывшей городской учительнице из интеллигентной русской семьи (теперь она служила в Наркомпросе), и о IV классической гимназии на Покровке, где он учился.
— Попечитель городского училища, — сказал он между прочим, — даже хотел уволить маму за ее причастность к революционному движению, о чем, понятно, пронюхали подлецы (хоть она и не высказывалась гласно). Но за нее каждый раз заступалась перед Городской управой другая учительница. Даром, что княжна Шаховская…
— Мария Александровна?
— Кажется, так. Добрейшая, впрочем, чудачка.
— Тетка композитора Скрябина?
Но об этом он ничего не знал…
В заключение Лацис, очень по-мужски и по-мальчишески, предложил мне командовать вторым взводом своей роты, так как «взводный там очень слаб». Я изъявил согласие. Но из моего столь неожиданного «повышения по службе», которым я был всецело обязан все той же сцене в соборе, ничего не вышло. Плеврит и внезапная вспышка туберкулеза, как косарем, отсекли этот краткий (первый, но не последний) военный эпизод моей биографии. Я снова жил в Москве и пил молоко «по рецептам».
С Лацисом мне и при желании не удалось бы повстречаться: по примеру отца, и он «отдал душу свою за други своя» чуть ли не в первом бою с «белополяками». Пока я жив, память об этом удивительно чистой души юноше не померкнет. {-32-}
…Я позволил себе вдаться в такие подробности лишь потому, что куда более подробно обо всем этом рассказы вал Борису Леонидовичу во время одной из ближайших наших встреч.
— Как это все интересно, Коля! Ведь мы, горожане- интеллигенты, засев в своих берлогах, многим больше теперь оторваны от народа, чем то было до революции. То есть если, конечно, заниматься народом и револю цией всерьез и вплотную: попросту быть партийцем. Но уж тогда не в Наркомпросе, куда все набежали со своими обносками, с «Фребелем» и с «Психологией» Челпанова. А так — не только на уральский завод (да навряд ли он сохранился), и на дачу-то, в деревню, не поедешь. Очень им нужны наши «керенки» или папины этюды, даже если на них изображен чуть ли не весь Третий Интернационал. Я вам когда-нибудь покажу. А вы все это видели своими глазами. Вам можно позавидовать! Скверно только, что вы заболели, но, даст Бог, скоро поправитесь… Как хорошо вы мне все это рассказали — и про город, и про «стихийную безликость» и дурачков-офицеров, и, — у него дрогнул голос, — про партийца Петю. Он — прелесть! Мы же здесь только варимся в соку собственной горечи… А кто вам сказал, что он погиб?
— В Москву приехал один бывший однополчанин, студент-медик. Его направили в Петроград, в Военно- медицинскую академию, где он раньше учился. Он-то и побывал у меня проездом…
— Как его жаль! Вы не смейтесь, что я вместо вас по нем роняю слезы, — (я и не думал смеяться). — Вот сели бы и написали о нем рассказ.
— Ну что вы, Борис Леонидович! Для рассказа этого слишком мало.
— Что значит «слишком мало»? Для «Пинкертона», конечно, слишком мало, но я ведь — не о «Пинкертоне». — NB! Я никогда не читал «Пинкертона», как, надо {-33-} думать, и Борис Леонидович ). — И потом: в обыкновении каждого зерна давать росток. Глядишь, и рожь заколосится. Я вам больше скажу: удивительнее то, что и лежа у себя на печи — на буржуйке, правда, не разляжешься! — я все так примерно себе и представлял. Надо только немного (а лучше много!) знать жизнь и секрет ее верстака. Попав под перо — тех, кто любит ее верстак, конечно, и желает ей успеха, — жизнь доскажет все то, на что не дала нам взглянуть. В мастерской искусства все нити — Ариаднины нити: они не только уводят, но и приводят , и обязательно к самой сути. Вот она даже до Скрябина довела…
Реализм — это не направление, — так продолжал он, — а сама природа искусства, сторожевой пес, который не дает уклониться от следа, проложенного Ариадниной нитью. Вот только найти такой клубок! И если мы, пишущие, все больше отмалчиваемся, не говорим о том, что у нас творится под носом, так это от робости, глубоко нехудожественной, от того, что мы все еще
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «О БОРИСЕ ПАСТЕРНАКЕ. Воспоминания и мысли - Николай Николаевич Вильмонт», после закрытия браузера.