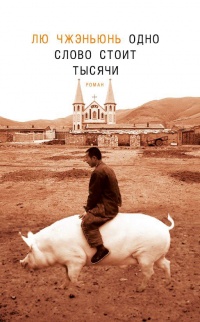Читать книгу "Последний колдун - Владимир Личутин"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Степа переступил порог в придел: раскрашенный трехметровый крест с распятьем Христа изъязвлен топором на уровне груди – знать, кто-то пытался сронить его иль свалить, но огонь, разведенный из лиственничных щепок и прочего хлама, не взял провяленное до костяной крепости дерево и лишь до черноты обуглил его с-под низу да выжег ноги Христа. В углу, на куче тряпья, старинных богомольных подношений, подобрав под себя ноги, нахохлилась Милка. Увидев Степу, она поначалу капризно отвернулась, но на долгое молчанье характера не хватило, и потому тут же вскочила, обняла крест:
– Ну, как я смотрюсь?..
– А никак. – Парень отвернулся к провалу окна, в котором далеко внизу виделась и смуглая от вечерней зари река, и зеленеющее с кровяными прожилками небо, и ранняя апельсиновая звезда. Милка сзади сопела, но вдруг подкралась, обхватила за шею.
– Степа, ну что с тобой. Ты меня разлюбил? – в голосе послышалась близкая слеза. – Тепа, ну повернись ко мне.
Царь иудейский безглазо смотрел с креста, жилистое худое тело, потеряв очертанья, изжив плоть свою, словно бы проникло внутрь дерева. От долгого ли напряженья, но Степушку охватила такая тоска, он вдруг так зажалел себя, что слезы навернулись на глаза. Он опустился на тряпье и голову спрятал в коленках: странная маетная слабость неожиданно полонила парня, и он вроде бы утонул в самом себе и перестал жить. Милка, испуганная, удивленная, встала на колени, по-матерински обхватила Степушкину голову.
– Ой Тепа, ты Тепа. Маленький ты мой глупыш. – Милке тоже захотелось плакать. Видно, печальный полумрак часовни и то состояние вечерней тишины, что полонила замирающий мир, вдруг ослабили душу. – Ты скажи, что с тобой. – От Милки пахло загорелым телом, еще неистраченной свежестью реки и горечью просохшей глины. И, невольно приникая губами к распахнувшейся ложбинке над грудью, отдаваясь мерному каченью, Степушка внезапно почувствовал себя словно бы недавно родившимся, еще чистым и доверчивым.
– Не надо, ты что. Было так хорошо, а ты...
Милка пыталась тельняшкой прикрыть грудь.
– Чего не надо, чего? – бормотал Степа, уже хмельной от желанья.
– Ну прошу тебя, – упиралась Милка, а сама уже и дышала-то горячо и прерывисто, и охотно поддавалась, никла навстречу под его тяжелой жадной рукой.
– Я знал, что ты явишься. Я знал это, и сердце в двери вырезал для тебя. Мать-то мне: «Ты чего, – говорит, – дверь портишь». А я говорю: «Любовь жду». Ты увидела, что мне горько, и прилетела, да?
– Глупенький ты... Может, в луга куда? Вдруг кто зайдет? – Милкин голос замирал и угасал. – И этот дядя с креста смотрит... Подстелить бы чего, а то грязно. Соскучилась-то как, гос-по-ди.
– Ты подхватись, мы и полетим. Ловчее подхватись, – пересохшим голосом бормотал Степа. – Я от деда Геласия слыхал, пел он... «Афон-гора святая, не знаю я твоих красот, и твоего земного рая, и под тобой шумящих вод...» Светло тебе?..
– Боже, как хорошо.
И тут в часовне потемнело, в проем окна по самые плечи просунулся кто-то и дрожаще спросил:
– Ну как, сынок, хорошо устроился?
У Параскевы было набухшее, распаренное от бега лицо, ореховые глаза слезились, и она с трудом ворочала деревянным непослушным языком.
– Мне девка на дороге попалась. «Тетя Параня, – кричит, – тетя Параня, ваш-то Степка с Милкой пошел грибы собирать». Это мала-то девка мне кричит. Они, говорит, в церкву пошли грибы собирать. Боже святый. – Параскева неожиданно выдернула голову из проема, обежала часовенку и появилась в дверях.
– А чего у нас было, у нас ничего и не было, правда, Степа? – обиженно встретила Милка, прикрывая ноги тряпьем.
– Я тебя не спрашиваю, лахудра трясоголовая. Ты, сынок, ответь мне, у тебя жена, у тебя семья, а ты как кобель. Может, нынче так положено, дак ты разъясни мне, старой глупой кокоре. Этой-то заразе трясоголовой я плешь выстригу, а ты большой вырос, ты на моем молоке разъелся, у меня силы не хватит с тобою справиться. Степа, уймись, богоданный мой, за что казнишь мою старость.
– Уйди, – глухо попросил Степушка, зажимая ненависть к матери.
– Бога бы хоть бы постыдились...
– А бога нет, Параскева Осиповна, – неожиданно отозвалась Милка и бессовестно засмеялась.
Утром, еще ни свет ни заря, навестил председатель и поднял с койки только что разоспавшегося Степушку: до утра маялся парень, травил душу, кому-то желал больно отомстить и лишь на заре забылся.
– Кто велел вам приехать в самую страду? Почто кинули работу? – спросил Радюшин, не здороваясь. – Чтобы через час ноги твоей здесь не было.
Степушка едва разодрал глаза, ломило виски, и все случившееся вчера встало вдруг в таком постыдном свете, что жить не хотелось. Радюшин не смотрел на парня, стоял боком, словно бы остерегался глянуть прямо в глаза, и Степушку неприятно поразила крутая складка у рта, капризно оттянувшая губу, и полысевшие с затылка волосы, сейчас торчащие жалкими перьями.
– Не поеду, – равнодушно сказал он и отвернулся к стене, чтобы никого не видеть.
– Ехал бы ты, сынок, – подала голос мать. – Хоть бы от шлюхи этой отвязался. Да и то, Николай Степанович, пристала к парню хуже смолы. Для них нынче бога нету, дак им все положено. Чего хочу, то и ворочу.
– Заткнулась бы, – мрачно посоветовал Степушка.
– Скоро уж... Вот на кладбище понесешь, дак поплачешь.
– Ни слезы не уроню.
– Ты как с матерью говоришь! – взвился Радюшин, налился кровью.
– А не твое собачье дело, – круто повернулся Степа, приподнялся на локте, словно бы только и дожидался этого угрозливого тона: лицо у парня серое, мятое, с черными подглазьями, борода свалялась клочьями. – В чужой избе раскомандовался. Может, учить меня будешь, как жить? Морали читать хорошо, наспавшись возле чужой жены... Иди-иди, не ешь глазами-то, не больно и боюсь, ваше благородие. Разговор помнишь? Теперь секи, день и час грядет...
– Сопля, – устало сказал Радюшин: он умел владеть собой. – А работать придется, или вон из деревни поганой метлой. Ты вот собачишься, сопля, сыкун несчастный, а я тебе ничего плохого не сделал, кроме добра.
– Ну-ну, посчитаемся давай, – Степушка опустил ноги на пол.
– Ты пошто с хресным так? Он же тебе за отца родного, – снова вмешалась Параскева, убоявшись драки.
– Да идите вы все к такой-то матери. – Степушка неожиданно потух, вновь отвернулся к стене, дожидаясь, когда туго прихлопнет дверь. «Ты ему не потакай, Параскева Осиповна, – слышался с крыльца голос Радюшина. – А я с него на правлении стружку сниму. Привыкли по шорстке чтоб. Нас раньше жали, мы сывороткой стали, зато мы все выстояли. А эти, как до дела – размазня: им бы только кулаки в ход пускать. Тут они герои». Неожиданно робко, наверное чуя свою вину, что-то отвечала мать, да и после, когда ушел председатель, она долго шастала в сенцах и бунчала, не решаясь, однако, войти к сыну. В распахнутые уличные ворота широко вливался утренний малиновый свет распалившейся зари: день обещал быть добрым. Но Степушкина комната пока полнилась прохладными сумерками, и лишь сердечко в двери пыльно мерцало, розовое по кайме, и от него на пол отражалась четкая желтая тень. Снова вспомнился с жарким стыдом вчерашний вечер, могильный запах часовни, раскинутые на ветхом тряпье бесстыдные Милкины ноги, обгорелый Христос на кресте и истошный вопль матери, когда Степушка погнал ее прочь, матюкаясь... Да, как это Милка сказала? Неудобно, говорит, здесь любиться, дядя с креста на нас смотрит. А тут мать и примчалась, дура и надзирательница. Уехать надо, к чертовой матери, затеряться и чтобы никого возле. А возможно ли, чтоб сам по себе? Игра ведь все, трали-вали... Но что со мной творится, почему не живется, как всем. Видно, дыра сквозная на сердце, и вот все утекает через нее, утекает. Сам мучаюсь и людей извожу понапрасну...
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Последний колдун - Владимир Личутин», после закрытия браузера.