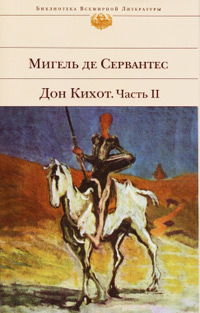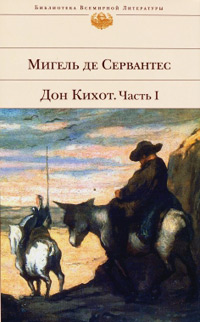Читать книгу "Том 4. Тихий Дон. Книга третья - Михаил Шолохов"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
По пескам шли старики молча. Оживились, только когда один из молодых выстрелил по зайцу. За истраченный попустому патрон (что строго воспрещалось приказом командующего повстанческими силами) решили старики виновного наказать. Сорвали на парнишке зло, выпороли.
— Сорок розгов ему! — предложил было Пантелей Прокофьевич.
— Дюже много!
— Он не дойдет тогда!
— Шеш-над-цать! — рявкнул Христоня.
Согласились на шестнадцати, на четном числе. Провинившегося положили на песке, спустили штаны. Христоня перочинным ножом резал хворостины, покрытые желтыми пушистыми китушками, мурлыкая песню, а Аникушка порол. Остальные сидели около, курили. Потом снова пошли. Позади всех плелся наказанный, вытирая слезы, натуго затягивая штаны.
Как только миновали пески и выбрались на серосупесные земли, начались мирные разговоры.
— Вот она, землица-любушка, хозяина ждет, а ему некогда, черти его по буграм мыкают, воюет, — вздохнул один из дедов, указывая на сохнувшую делянку зяби.
Шли мимо пахоти, и каждый нагибался, брал сухой, пахнувший вешним солнцем комочек земли, растирал его в ладонях, давил вздох.
— Подоспела земля!
— Самое зараз бы с букарем.
— Тут перепусти трое суток, и сеять нельзя будет.
— У нас-то, на энтой стороне, трошки рано.
— Ну да, рано! Гля-кось, вон над ярами по Обдонью ишо снег лежит.
Потом стали на привал, пополудновали. Пантелей Прокофьевич угощал высеченного парнишку откидным, «портошным» молоком. (Нес он его в сумке, привязанной к винтовочному дулу, и всю дорогу цедилась стекавшая из сумки вода. Аникушка уже, смеясь, говорил ему: «Тебя, Прокофич, по следу можно свесть, за тобой мокрая вилюга, как за быком, остается».) Угощал и степенно говорил:
— А ты на стариков не обижайся, дурастно̀й. Ну, и выпороли, какая же беда! За битого двух небитых дают.
— Тебе бы так вложили, дед Пантелей, небось другим бы голосом воспел!
— Мне, парень, и похуже влаживали.
— Похуже!
— Ну да, похуже. Явственное дело, в старину не так бивали.
— Бивали.
— Конешно, бивали. Меня, парнишша, отец раз оглоблей вдарил по спине — и то выходился.
— Оглоблей!
— Говорю — оглоблей, стало быть — оглоблей. Э, долдон! Молоко-то ешь, чего ты мне в рот глядишь? Ложка у него без черенка, сломал небось? Халява! Мало тебя, сукиного сына, ноне пороли!
После полуднования решили подремать на легком и пьянящем, как вино, вешнем воздухе. Легли, подставив солнцу спины, похрапели малость, а потом опять потянули по бурой степи, по прошлогодним жнивьям, минуя дороги, напрямик. Шли — одетые в куртки, шинели, зипуны и дубленые полушубки; обутые в сапоги, в чирики, с шароварами, заправленными в белые чулки, и ни во что не обутые. На штыках болтались харчевые сумки.
Столь невоинствен был вид возвращавшихся в сотню дезертиров, что даже жаворонки, отзвенев в голубом разливе небес, падали в траву около проходившей полусотни.
* * *
Григорий Мелехов не застал в хуторе никого из казаков. Утром он посадил верхом на коня своего подросшего Мишатку, приказал съехать к Дону и напоить, а сам пошел с Натальей проведать деда Гришаку и тещу.
Лукинична встретила зятя со слезами:
— Гришенька, сыночек! Пропадем мы без нашего Мирона Григорьевича, царство ему небесное!.. Ну, кто у нас будет на́ полях работать? Зерна полны амбары, а сеять некому. И головушка ты моя горькая! Остались мы сиротами, никому-то мы не нужны, всем-то мы чужие, лишние!.. Ты глянь-кось, как хозяйство наше рухнулось! Ни к чему руки не доходют…
А хозяйство и в самом деле стремительно шло к упадку: быки били и валяли плетни на базах, кое-где упали сохи; подмытая вешней водой, обрушилась саманная стена в сарае; гумно было разгорожено, двор не расчищен; под навесом сарая стояла заржавевшая лобогрейка, и тут же валялся сломанный косогон… Всюду виднелись следы запустения и разрухи.
«Скоро все покачнулось без хозяина», — равнодушно подумал Григорий, обходя коршуновское подворье.
Он вернулся в курень.
Наталья что-то шепотом говорила матери, но при виде Григория умолкла, заискивающе улыбнулась.
— Маманя вот просит, Гриша… Ты же кубыть собирался ехать на́ поля… Может, и им какую десятинку бы посеял?
— Да на что вам сеять, мамаша? — спросил Григорий. — Ить у вас же пшеницы полны закрома.
Лукинична так и всплеснула руками.
— Гришенька! А земля-то как же? Ить покойничек наш зяби напахал три круга.
— А чего же ей поделается, земле? Перележится, что ли? На энтот год, живы будем, посеем.
— Как можно? Земля вхолостую пролежит.
— Фронты отслонются, тогда и сеять будете, — пробовал уговорить тещу Григорий.
Но та уперлась на своем, даже будто бы обиделась на Григория и под конец в оборочку собрала дрогнувшие губы.
— Ну, уж ежели тебе некогда, может, али охоты нету нам подсобить…
— Да ладно уж! Поеду завтра себе сеять и вам обсеменю десятины две. С вас и этого хватит… А дед Гришака живой?
— То-то спасибо, кормилец! — обрадовалась просиявшая Лукинична. — Семена, скажу ноне Грипашке, чтоб отвезла… Дед-то? Все никак его господь не приберет. Живой, а кубыть трошки умом начал мешаться. Так и сидит дни-ночи напролет, святое писание читает. Иной раз загутарит-загутарит, да так все непонятно, церковным языком… Ты бы пошел его проведать. Он в горенке.
По полной щеке Натальи сползла слезинка.
Улыбаясь сквозь слезы, Наталья сказала:
— Зараз взошла я к нему, а он говорит: «Дщерь лукавая! Что же ты меня не проведывашь? Скоро помру я, милушка… За тебя, за внученьку, как преставлюсь, богу словцо замолвлю. В землю хочу, Натальюшка… Земля меня к себе кличет. Пора!»
Григорий вошел в горенку. Запах ладана, плесени и гнили, запах старого неопрятного человека густо ударил ему в ноздри. Дед Гришака, все в том же армейском сером мундирчике с красными петлицами на отворотах, сидел на лежанке. Широкие шаровары его были аккуратно залатаны, шерстяные чулки заштопаны. Попечение о деде перешло на руки подраставшей Грипашки, и та стала следить за ним с такой же внимательностью и любовью, как некогда — ходившая в девках Наталья.
Дед Гришака держал на коленях библию. Из-под очков в позеленевшей медной оправе он глянул на Григория, открыл в улыбке белозубый рот.
— Служивый? Целенький? Оборонил господь от лихой пули? Ну, слава богу. Садись.
— Ты-то как здоровьем, дедушка?
— Ась?
— Как здоровье? — говорю.
— Чудак! Пра слово, чудак! Какое в моих годах могет быть здоровье? Мне ить уж под сто пошло. Да, под сто… Прожил — не видал. Кубыть вчера ходил я с русым чубом, молодой да здоровый. А ноне проснулся — и вот она, одна ветхость… Мельканула жизня, как летний всполох, и нету ее… Немощен плотью стал. Домовина уж какой год в анбаре стоит, а господь, видно, забыл про меня. Я уже иной раз, грешник, и взмолюсь ему: «Обороти, господи, милостливый взор на раба твоего Григория! И я земле в тягость и она мне»…
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Том 4. Тихий Дон. Книга третья - Михаил Шолохов», после закрытия браузера.