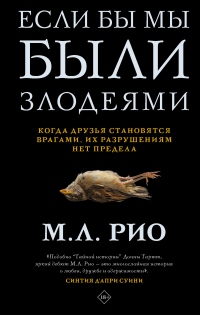Читать книгу "Серая слизь - Алексей Евдокимов"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Дом – оставшийся от отца-архитектора – у Лапицко-го был штучный. Не просто в дюнной зоне – а непосредственно в дюне. Врытый в дюну с внутренней стороны. Так что с узкого галечного звейниекциемского пляжа виден был только один этаж “дзота” – так Глеб сам называл фамильное свое гнездовище; закругленно-приплюснутый, с покатой крышей, этаж этот и впрямь напоминал то ли навершие дзота, то ли ходовую рубку скоростной яхты. И только если подходить со двора, с обратной стороны, становилось понятно, что этажей в “дзоте” два, даже два с половиной (приземленные оконца полуподвального выполнены были в форме иллюминаторов). Полуутопленным в дюну получался и овальный двор: Лапицкий-старший в свое время бульдозером выскреб песок и почву до твердого глинистого слоя – так что летом, в жару, Глеб каждодневно поливал этот “такыр” из шланга, чтоб не пошел трещинами.
Внутри особнячок тоже тяготел к дизайнерской мили-тарности, намекающей то на подземный укрепрайон, то на субмарину или, к примеру, дредноут: камин (в котором мы по плохой погоде или холодному времени жарили осетровый шашлычок) стилизован был под пароходную топку, столешница низкого журнального столика вырезана из медного листа с заклепками по периметру (ножка – из трехлопастного гребного винта)… А всяческая декоративная колониальная дребедень (статуэтки, курительные трубки и прочие “пылинки дальних стран”) даже не создавала ощущения кунсткамеры.
Это любовно-дотошное, заботливо-пристальное внимание к ВНЕШНЕМУ, к вещам, неодушевленным предметам, объектам неживой природы, характеризовавшее не только домашнюю обстановку, но и самого домовладельца – именно в индувидуальном Глебовом случае интересным образом, отнюдь не раздражало и никоим образом о его мудачестве не свидетельствовало. Хотя в подавляющем большинстве иных случаев свидетельствует именно о нем…
Никогда мне было не просечь, допустим, понятия моды. Как минимум, в отношении мужиков и их одежды. С глубокого детства, проведенного в джинсах и кедах, и по сю пору, проводимую – all year around – в одних и тех же трекинговых кроссовках и акватексовой куртке (под которую зимой просто поддевается флис, в случае особенного дубака – два флиса). Любой другой – в радикальном, по крайней мере, проявлении – подход к ШМОТЬЮ всегда отдавал для меня в лучшем случае патологической зависимостью от кастовых формальностей (костюм-тройка, напяливаемый из соображений корпоративной этики), в худшем – латентной педерастией. Но для одного человека я всегда делал исключение. Для Глеба.
Лапа был пижон, пижонище – причем в самом кондовом смысле. Одевался он всегда по-разному, но всегда не просто тщательно: изобретательно, азартно. С тем упоенным интересом к мельчайшим деталям прикида, что отличал, верно, героев Дюма, придирчиво различавших нюансы манжетных кружев или шитья перевязи… Сие не означает вовсе, что Глеб циклился на тряпках: одежка была всего лишь частным проявлением общего Глебова “метода осуществления жизни”, каковой жизни он был не любитель, а – профессионал.
Помимо одежки, Лапа знал толк в кухнях (и сам готовил отменно, с изъебистой шефповарской лихостью), табаках, винах, вообще алкоголе, женщинах, машинах (и менял их часто: от оригинального кургузого “мини-купера” до насекомовидного родстера “Chrysler Prowler”… – как, впрочем, и женщин), яхтах, часах и почти всей прочей глянцевожурнальной инфантильной атрибутике. За показательным исключением, например, оружия (предназначенного не для наслаждения жизнью, а для ее пресечения) – что подтверждает: не в инфантилизме было дело… И не в сибаритстве, и тем более не в накопительстве толкиеновского МУСОМА (хлама, которым человек обрастает – и к которому прирастает).
В вещах, бабах, прочих радостях плоти Глеб усматривал, видимо, просто одно из проявлений завораживающей пестроты, захватывающего многообразия бытия вообще. Он и книжки читал так же – залпом, и фильмы смотрел запоем, и с людьми знакомился взахлеб. Среди Глебовых знакомых была груда знаменитостей – но не потому вовсе, что Лапе эти знакомства льстили, или он коллекционировал звезд: его притягивала (насколько я могу судить) человеческая яркость, внутренняя состоятельность. Тем более что маргиналов и чудиков всех сортов в приятелях у него ходило ничуть не меньше.
Подкупало в Глебе то, что его чувство к жизни смотрелось по-настоящему искренним и бескорыстным. И, что характерно, взаимным. Лапа уникален был еще и тем, что его успешность – в смысле самом прямом и грубом, социально-финансовом, – хоть и будучи благоприобретенной, не являлась результатом целенаправленного усилия. Ни деньги, ни социальное положение не были для него целью; а отсутствие каких-либо проблем как с тем, так и с другим, оказывалось не причиной этого невнимания, но каким-то парадоксальным следствием.
Заниматься он мог чем угодно – создавать дизайнерское бюро или фирму видеопроката, или выступать торговым посредником, или устраивать чьи-нибудь где-нибудь гастроли, – и всегда это выходило удачным и приносило Лапе превосходящий всяческие расчеты и ожидания профит. Причем чем безответственнее он распоряжался этим профитом, тем неотвратимее и ско-ропостижнее наступала следующая пруха.
И вот чего при всем этом в Глебе не было ни грана – так это самодовольства. Возможно, в последнем, в итоге, все дело. Возможно, именно благодаря данному обстоятельству органичным и ненатужным гляделся полный до самопародии Глебов реестр примет везунчика и победителя: подтянутость-загар-голливудский оскал и тотальный, абсолютный, всепогодный, многоцелевой оптимизм.
Как ни странно, при крайне шапочной сущности моего с Лапой знакомства, я знакомство это ценил. Оно помогло мне не погрязнуть в негативных стереотипах…
…Еще идя по влажной песчаной дорожке от шоссе к “дзоту”, я понимаю, что никого не застану. Хотя пасмурно, света – ни в одном окне, калитка явно заперта, двор (насколько я могу разглядеть через деревянный невысокий заборчик) не убирался самое меньшее неделю. На гаражных воротах – издали видимый тяжелый висячий замок… Все-таки подхожу, все-таки дергаю калитку. Для проформы сандалю кнопку звонка… Оглядываюсь: за темными сосновыми столбами мокнут соседские дома – тоже без особых признаков жизни. Дюнные складки спускаются по обе стороны “дзота” (с фасада смахивающего, скорее, на ленинский мавзолей), на гребне – контрастными силуэтами – опять же сосны, но совсем другие: не прибалтийские, а японские какие-то, с японской гравюры, скрюченно-скрученно-кружевные (такие же я помню на Кавказе, только там они еще горизонтально вырастали из вертикальной скалы).
У калитки – почтовый ящик, сквозь прорези в дверце видно: что-то там есть… Почти механически трогаю ее за жестяной уголок – не заперто. Конверт с логотипом “Лат-телекома”. Телефонный счет. Пятидневной давности, невостребованный… Сую обратно, захлопываю дверцу.
Перелезаю через забор – сам не очень зная, зачем. Грязь во дворе, грязные разводы на светлых плитках дорожки, грязная вода в чаше фонтанчика, куда нападали сучья. Стучу в синюю дверь. Ага. Разворачиваюсь…
Истошные оранжевые – полуметровые – буквы (краской из баллончика) размахнулись полукругом по внутренней стороне забора.
УТОПИ МЕНЯ В ХОХОТЕ СЕРОЙ СЛИЗИ
Строчка из стихотворения покойного Якушева.
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Серая слизь - Алексей Евдокимов», после закрытия браузера.