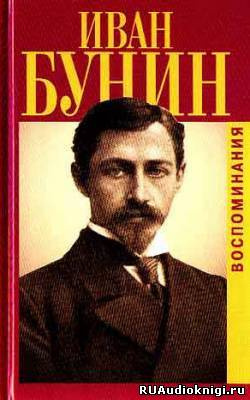Читать книгу "Изгнанник. Литературные воспоминания - Иван Алексеевич Бунин"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– Без ужаса, омерзения и боли сердечной не могу вспомнить об этих годах… Я убивал людей на войне, вызывал на дуэль, чтобы убить; проигрывал в карты, проедал труды мужиков; казнил их, блудил, обманывал. Ложь, воровство, любодеяние всех родов, насилие, убийство… Не было преступления, которого бы я не совершал…
«Роскошь» и слабость к ней он приписывал себе тоже сам, собственной рукой: «Я покорился совершенно соблазнам судьбы и живу в роскоши…» Сколько раз писал он это? Без числа, без всякой меры. А меж тем есть ли и в этой фразе хоть одно точное слово? «Покорился» – неправда: мучился «роскошью» своей жизни ужасно, с мыслью бежать от нее не расставался целые десятилетия и осуществить ее не мог единственно потому, что на этот, по его словам, эгоистический, бесчеловечный по отношению к семье шаг не хватало безжалостности. «Соблазны судьбы» – тоже неправда: кто мало-мальски знает его жизненный обиход, тому слово «соблазны» просто смешно. «Весь век прожил в богатстве…» Но Толстые никогда не были богаты. Бабка Толстого по отцу была, как говорит он в своих воспоминаниях, дочь «скопившего большое состояние слепого князя Горчакова». Но дед (Илья Андреевич Толстой) промотал и свое, и то, что он взял в приданое за ней. Он был «не только щедрый, но бестолково-мотоватый, а главное, доверчивый… В его имении шло непрестанное пиршество, театры, балы, обеды, которые, в особенности при страсти деда играть по большой в ломбер и вист, не умея играть, и при готовности давать всем, кто просил, и взаймы и без отдачи, кончилось тем, что большое имение его жены все было так запутано в долгах, что жить было нечем, и он должен был выхлопотать себе место губернатора в Казани». Дед по матери (Николай Сергеевич Волконский) был весьма состоятелен, но бóльшая часть того приданого, которое взял Николай Ильич за Марией Николаевной, ушла на покрытие долгов Ильи Андреевича. Из имений у Николая Ильича осталась только Ясная Поляна, но и Ясную Поляну унаследовал он не от отца, а взял в приданое за женой. Короче сказать, родился и вырос этот богач в бедности, молодым терпел настоящую нужду; в зрелые годы, когда уже считал себя довольно обеспеченным, в отчаяние приходил из-за какой-нибудь лишней грошовой траты, – как Левин, проевший и пропивший с Облонским в ресторане «целых» семь рублей, – а что за «роскошь» окружала его старость, видно, например, из записей его друга Буланже, в 1901 году сопровождавшего его, больного, на поправку в Крым, где он был приглашен жить у графини Паниной: «Почти со страхом глядел на ее дом Лев Николаевич, привыкший к простой, скромной, чтобы не сказать бедной, обстановке Ясной Поляны, где полы были во многих комнатах некрашеные, рамы в окнах гнилые, с облезлой краской…» Те же чувства, что и отец, испытала в этом доме и Александра Львовна, тоже сопровождавшая его в Крым: «Поразила роскошь дворца. Я никогда в таком доме не жила. Было неловко и неуютно: мраморные подоконники, резные двери, тяжелая дорогая мебель, большие высокие комнаты…» Тут, кстати, надо сделать еще одну поправку – насчет его опрощения в одежде. Этому опрощению почему-то придали и теперь еще придают совсем незаслуженное значение. Как все деревенские дворяне, он и до опрощения носил зимой (даже иногда и в городе) тот самый полушубок, который впоследствии сделали столь знаменитым; носил и длинные сапоги, и блузу, и валенки; порой и косил, пахал. Но вот стали всему этому дивиться. Почему? Анатоль Франс в полушубке, Марсель Пруст с косой в руках, Бодлер за сохой, разумеется, были бы удивительны. Но Толстой? Впрочем, я понимаю, например, Мережковского, который в своей книге («Толстой и Достоевский») посвятил этому полушубку (и косе и пиле, стоявшим в рабочей комнате Толстого) столько наивных страниц: трудно найти даже среди нынешних русских писателей более типичного городского человека, чем Мережковский, отроду никогда не видавший, вероятно, собственными глазами ни косы, ни пилы, – недаром он называет пилу напильником…
– Франческо, – говорит Чинелли дальше, – был человек веселый, он пел, учил радости. А Лев…
А что «Лев»? «Лев» записал однажды, уже в старости: «Слушал политические рассуждения, споры и вышел в другую комнату, где с гитарой играли и пели, и ясно почувствовал святость веселья».
– Лев маялся смертной мукой в своей рассудочной борьбе с красотой и природой… Лев тоже имел от Бога дар понимать природу. И он наслаждался ею. Но ему было мало того: в своей человеческой гордыне он не мог помириться на непосредственном восприятии наслаждения, хотел вникать и познавать… Оба, Франческо и Лев, любили животных. Но как разно! Лев, смолоду великий охотник, должен был наложить на себя зарок не убивать животных. А Франческо…
Опять можно напомнить Чинелли: множество святых прошли через это – хотели «вникать и познавать». А что до охоты, то и святой Евстафий был отличен от Франческо, – был «великий ловец» и тоже «должен был наложить на себя зарок не убивать животных». И не один Евстафий: еще, например, Юлиан Милостивый…
Слово за словом повторяет Чинелли те злые и упорные в искажении действительности мнения о Толстом, на которых основана вражда и даже ненависть к нему еще очень, очень большого числа людей. «Мое истинное „я“ презираемо окружающими», – горько говорил он в старости, записывая свои «дни и дела» в Ясной Поляне. Это «я» было «презираемо» не только некоторыми из окружавших его в Ясной Поляне, но и тысячами тысяч из тех, которыми окружала его и Россия, и Европа, и Америка. «Презираемо» и до сих пор. Я не выбирал Чинелли – я случайно узнал о его «громадном и превосходном труде» от Амфитеатрова и увидал, сколь Чинелли не случаен, сколь он типичен. Вот хотя бы то, как сошлись на вражде к Толстому молодой итальянский писатель и старый русский. Русский писатель должен был бы знать и понимать Толстого во сто раз лучше всякого иностранного. Но вот – полное единодушие, такое, что чем дальше читаешь статью Амфитеатрова, тем все меньше понимаешь, кто говорит: Амфитеатров или Чинелли?
Амфитеатров говорит:
– В любви к женщине и в бунте против этой любви – весь Толстой. Он так много любил, что перелюбил. И как он любил? Никто не любил более по-человечески, менее духовно, чем он. И как скоро ударил час его телесного упадка, он, в озлоблении, что теряет телесную силу, которая роднила его с матерью-землей, озлобился на целых тридцать лет, стал, грязно ругаясь, старчески бунтуя, – вспомните мрачную похоть о. Сергия, – проповедовать безусловное целомудрие.
То же говорит и Чинелли:
«В устах Толстого проповедь
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Изгнанник. Литературные воспоминания - Иван Алексеевич Бунин», после закрытия браузера.