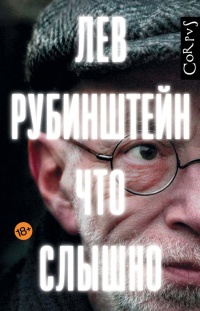Читать книгу "Асистолия - Олег Павлов"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Утром разбудил звонок в дверь. На пороге — низкорослый крепыш в штатском. Хмуро предъявил это свое удостоверение, заставив разглядеть: это он же, только в милицейской форме, смотрит как бы в упор. То они “сотрудники”, то “работники” — но это “внутренних органов” звучит зловеще, как будто заявляются из пучины миазмов… “В вашем доме произошло убийство, — держит паузу. — Где вы находились вчера в районе двадцати одного ноль-ноль? — нагнетая: — Я имею в виду, гражданин, вы находились в это время в своей квартире?”. Ощущение, что он задержан и дает показания… Да, где-то кричали, потом вроде бы раздался звук разбитого оконного стекла… И все смолкло. Выяснили отношения, семейный скандал — так это казалось. Почудилось, будто бы что-то крупное упало, как бы мелькнуло, падая, в окне — но это было мгновенное впечатление. Он пытался вспомнить. Что-то вспомнил, не сказав, что был пьян и что на их кухне тоже кричали. Крепыш сосредоточился, даже напрягся. Для чего-то прошел на кухню: осмотрел окно, долго ползая взглядом по стеклу. Свидетель чего-то, там же, на кухне, он подписал протокол, составленный за несколько мучительных минут этим туповатым детективом, не понимая даже в конце, что же произошло, но боясь задавать вопросы… Уже одно присутствие этого человека заставляло чувствовать себя кем-то, кто причастен к преступлению. И он чувствовал себя так, пока тот не ушел. Лишь потом, выглянув, увидел это выбитое окно. Четвертый этаж, соседний подъезд, приткнутый в самом углу их похожего на огромную тюрьму дома. Внизу черное, с виду маслянистое пятно на асфальте.
Консьержка с ужасом шепчет: “наркоманы” — как будто они повсюду. Застыл, пойманный рассказом о том, что случилось уже неделю тому назад… Сон. Он выходит из своего подъезда… На плече спортивный рюкзачок, в котором уместилось все, что хотел тайно похоронить с помощью складной лопатки. И легко это ощущать, свою ношу, как если бы что-то невидимое, даже невесомое.
Маленький сквер у площади Новодевичьего монастыря кажется продолжением кладбища — но не было надгробий, на скамейках уединялись влюбленные парочки. На одной сидел старик, перебирая что-то на ладони: как будто гадал по руке… Он, видимо, только что купил батон белого хлеба. Сосчитав свои копейки, поедал: разрывал и мелкими кусками отправлял в рот, жадно и быстро. Его нисколько не смущало, что кто-то оказался поблизости. Но был так учтив, что отодвинулся, произнес: “Добрый день”. Хоть в глазах не было не то что любопытства — никакого интереса к жизни. Жевал, смотрел в пустоту перед собой, как это бывает у стариков. Освободив себя от рюкзака, он тоже молча отодвинулся — но потому, что почувствовал брезгливость. Брюки, китель — военно-морская форма, офицерские. Но как будто топтали в пыли. Обноски. Китель без погон, болталось пуговиц лишь несколько, засаленные золотые якоря на лацканах, под ним все исподнее: нательная майка. Сандалии на босу ногу — как у сумасшедшего, почему-то было ощущение, что это какой-то сумасшедший, откуда-то сбежал… Но самое неприятное — этот батон, когда еще крошил на себя, пока поедал… Старик вдруг перестал жевать, бросив что осталось голубям. Но так и не стряхнув крошки. Голуби слетелись и, толкаясь перед скамейкой, все живо подобрали, но не улетели, топтались и озирались, жадно ожидая и этих крошек. Старик ничего не замечал, он расслабленно подставлял лицо солнечному свету, вальяжно обтирал лоб чем-то, уже скомканным. Вздохнул: “Гроза будет… Так парит… Простите, молодой человек, вы что-то сказали?”.
Неловко промолчать: “Да, очень душно”.
Старик услышал — оживился, очнулся… И вытер лоб и все лицо платком, который и не платком оказался, а бумажной несвежей салфеткой: “Очень душно. Вы совершенно правы”.
Широкое коричневое лицо, живые карие глаза.
Представился: “Николай Петрович, честь имею”.
Николай Петрович бывший морской офицер, ждет направления в Дом ветеранов. Жена умерла, и живет он в коммуналке, хотя и в отдельной комнате, но в одной квартире с приемной дочерью и ее сыном. “Конечно, им эта комната очень нужна”, — так он говорил, соглашаясь, все понимая. И стал рассказывать об Аляске, а потом еще о Венеции, о морях и странах… Обо всем, что увидел и помнил, где пригодился и послужил: военно-морской атташе погибшей империи.
Вдруг, с удивлением: “А я вам всю свою жизнь рассказал…”.
Растерялся, замолчал.
“Это для вас”, — понял, по его первому движению, что он возьмет эти деньги — и поможет, и сможет их принять.
“Благодарю. Но как парит, как парит”.
Пот совсем залил его лицо.
На прощание радушно пригласил: “Заходите еще”.
Он ничего не смог. Думал переждать в сквере — и через некоторое время вернуться, сделав то, что решил. Но, простившись с занимавшим свою скамейку, как капитанский мостик, одиноким стариком, ждавшим и ждавшим грозу, пошел к метро, к метро…
Даже не шелестят тополя.
Душное московское лето.
Посреди дня по улочке, где ни ветерка, марево, еще вышагивал пьяный: шатался, качался, не попадая в шаг, замахиваясь — и проваливаясь ногой, точно бы в яму, как будто боролся со своей судьбой на кренящейся палубе тонущего корабля.
Где-то прошла гроза.
Пахло нашатырем.
Въехал в вагон метро на коляске безногий инвалид, парень в камуфляже: подумать можно было бы — прямо из войны вкатился в этот новый чужой мир… Через две остановки двинулся по вагону за подаянием. “Вы обратили внимание, он не просто так стоял, он ждал, когда выйдет мент, он не хотел, чтобы его засек мент!” — неожиданно впилась соседка сбоку: маленькая, лет шестидесяти, розовенькая, с крашеными светло-рыжеватыми кудрями. Обмахивается пластмассовым веером… “Они боятся ментов, потому что менты их гоняют, хотя почему они их гоняют, если они инвалиды, но с другой стороны — знаете, какая у них пенсия!” — почти что взахлеб, но негромко говорила соседка. Ряженый — или все же ветеран — тем временем осторожно катил свою коляску по проходу, ожидая, что обратит на себя внимание, но ему не верили или не вызывал почему-то жалости. Безногий приближался, что-то боролось в душе, но не жалость или жадность — а то, что кончилось бессилием… Принести пусть самую мизерную жертву на убогий алтарь, осознав, что и этот человек стал жертвой, принес кому-то за что-то в жертву свои ноги, прося теперь подаяния у тех, кто их имел, и что во всем этом есть хоть какой-то смысл… Он спрятал глаза — как многие. Но когда просил старика принять деньги, верил — хотел помочь, потому что получил помощь, утешение, сам был, наверное, слаб и жалок… Чувствовал, что жизнь ничего у него не отняла, даже оставив в одиночестве и бедности. Тем временем инвалидная коляска миновала полвагона и поровнялась с какой-то юродивой. Женщина неопределенного возраста. Лицо синюшное и одутловатое. Надвинутая на глаза грязная бейсболка, душная куртка, короткая юбка, черные кружевные колготки и грубые, не по размеру, кроссовки. На руках держала она собачку среднего размера, морда собачкина напоминала бультерьерью, но хвост лохматый. Собачка неистово лизала ее в лицо. Та радостно беззвучно смеялась и отвечала ей тем же — подставляла лицо, целовала. Всем своим видом она показывала — меня любят. Это она вдруг вынула из кармана куртки смятые десятирублевые листики, сразу несколько штук, похожие на какие-то тряпочки — и переложила в его целлофановый кулек. При этом она для чего-то перекрестила его. Стала заговаривать, стараясь удержать. Но тот что-то ответил, покивал, покатил по вагону, стараясь оказаться от нее подальше. “Нет, вы посмотрите, еще молодая, а что уже? — возмутилась приличная дама с пластмассовым веером — Да еще и молится, посмотрите, посмотрите!”. Собачкина хозяйка, действительно, размашисто крестилась, бессмысленно улыбалась, кланяясь во все стороны, пока любящее ее существо не кинулось лизать лицо… Рыженькая соседка что-то еще говорила, хотела ответа — но, к счастью, он должен был выходить.
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Асистолия - Олег Павлов», после закрытия браузера.