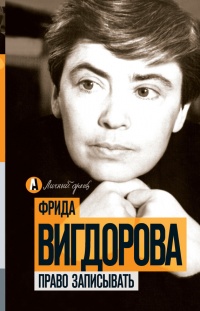Читать книгу "Как я стала киноведом - Нея Зоркая"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Последний раз мы с Неей ходили за грибами в начале августа 2004 года. Мы долго шли по так называемой «тропе здоровья», но грибов почти не было. Когда переходили ручей, видимо, повернули левее и попали в болотистую местность. В тот год говорили про многочисленных змей в подмосковных лесах. Я шла впереди, как всегда, потому что Нея плохо ориентировалась в лесу. Плутали около пяти часов. А когда, наконец, вышли из леса — замученные, грязные — начался сильнейший ливень с градом. Мы прижались к какому-то забору, но все равно вымокли до нитки и двинулись дальше. Пришли, выпили водочки, приняли горячий душ и, как ни странно, не простудились…
На Икше без Неи пусто.
Нея Зоркая — на всю жизнь…
Алексей Георгиевич Левинсон — руководитель отдела социокультурных исследований Левада-Центра.
Воспоминания впервые опубликованы в сборнике ГНИИ Искусствознания «Культурологические записки» (М., 2009, выпуск 11), посвященном памяти Н. М. Зоркой.
Когда-то, когда мы с НЗ еще не знали друг друга, мы жили в одном — арбатском — углу Москвы, и это не случайно: семьи принадлежали к одному слою московской публики. Я младше НЗ на полпоколения, ее запоминающееся имя мне знакомо с детства. Мой отец был сотрудником ее матери, моя мать где-то по работе связывалась с ее братом Андреем, я учился в той же школе, что и другой ее брат — Петр. Встреча с НЗ была очень вероятна, но судьба ее откладывала и откладывала.
В самом начале 1960-х на зимние студенческие каникулы я отправился в Среднюю Азию. В темных лавках чеканщиков-ювелиров-старьевщиков Хивы я заметил эффектную даму, перебирающую старинные азиатские браслеты и кольца. Заметил и рукописные афиши лекций по истории мирового кино со знакомым именем. То же повторилось в Бухаре. В Самарканде я не вытерпел и купил билетик в лекторий общества «Знание». Там имя совместилось не только с обликом дамы, но с неповторимым, как я теперь точно знаю, голосом. Неповторимым потому, что он служил ее особенной манере говорить, а последняя отвечала ее манере своей страстью вовлекать в диалог слушателя, собеседника, оппонента. Я тогда не решился подойти к лектору.
Но вот настал 1968 год. Важные вещи происходили в мире. Студенческие бунты в Европе подхлестнули и на полвека определили развитие общества и его философии на Западе. Замораживание «пражской весны», если не наполовину, то на четверть века, определило состояние общественной жизни и мысли на Востоке, то есть у нас.
Подавление попыток свободы в Чехословакии было куда менее кровавым, чем за двенадцать лет до того в Венгрии. Репрессии 1960-х против правозащитников и инакомыслящих были куда менее значительны, чем за двадцать, тем более тридцать лет до того. Но именно в конце 1960-х родились некие формы организованного и, если не массового, то и не единичного протеста в среде столичной интеллигенции. НЗ была в этих не густых, но передовых рядах.
Одной формой было «подписантство». Вспомним, в этом случае протест состоял всего лишь в том, что ряд интеллигентов в коллективном письме извещали власти о своем несогласии с начинающимися преследованиями отдельных лиц из их среды. Эти, казалось бы, верноподданнические действия расценивались, однако, как умысел на бунт и карались — не уголовным, но административным или политическим образом.
Другой, более опасной формой протеста был выпуск самиздатовской «Хроники текущих событий», собственно, хроники репрессий. За попытку не только сообщать, но даже знать о репрессиях, следовали репрессии же, порой еще более жесткие. В тех кругах, к которым принадлежала НЗ (и к тому времени и я), распространять «Хронику» и подписывать письма было страшно, отказываться это делать было стыдно. Насколько страшно? Очень страшно. Насколько стыдно? Очень стыдно. Ибо и страх и стыд связаны не с «объективной» мерой опасности или подлости, а с социальной их оценкой, с тем, что называют: «по меркам того времени». НЗ, разумеется, жила по меркам своего времени.
Сейчас людей, участвовавших в этих формах протеста, именуют диссидентами (т. е. откольниками) либо инакомыслящими. Это неверно. Они, а уж НЗ паче иных, не только не собирались откалываться от своей среды, но были плотью от ее плоти. И они не думали инако. О власти и ее действиях думали то же самое, что и НЗ, и те, кто, в отличие от нее, отказались подписывать письма, кто уклонялись, находя для себя разные оправдания, — у меня скоро защита, мне скоро в загранкомандировку, у меня мужа допуска лишат… и т. п. Подписывали же те, кто были инакие не мысленно, а нравственно, в душах которых боязнь стыда перед собой и близкими была больше боязни санкций со стороны начальства, государства, режима.
Подписантством столичная интеллектуальная элита устроила не испытание режиму на прочность, но самой себе — тест на отвагу и порядочность. НЗ было не занимать того и другого. В том 1968 году НЗ стала «подписанткой» и, разумеется, не боялась водиться с другими попавшими в опалу.
Меня судьба тоже приближала к этим людям. Действий протеста мне совершать не пришлось, но пришлось пережить вместе со многими внутренний разрыв с государством, пославшим танки против людей, которые собрались воплотить те социальные идеалы, что были в душе и у нас. В этом смысле 1968 год был для меня поворотным. Вообще в моей жизни в это время совершалось обретение того, что осталось, как теперь видно, навсегда: не только взглядов, но профессии и человеческих привязанностей. В этот-то ключевой момент судьба и подвела меня вплотную к НЗ.
Административные санкции или угрозы тогда уже настигали НЗ и ее друзей-«подписантов», в частности Л. Седова и Б. Шрагина (которого к тому же начали вызывать в КГБ по поводу «Хроники»). В это сообщество людей, только что с честью прошедших испытание для духа, Л. Седов привел меня летом 1969 года. Для меня оно предстало не как сборище заговорщиков, а как веселая компания, экипаж, отправлявшийся под командованием НЗ в плаванье по Онежскому озеру. Собственно, несколько таких навигаций и составили основной фонд моего общения с НЗ. Дружба и взаимные чувства остались с тех пор и до самых последних ее дней, но главное для меня состоялось именно тогда, и все, что я могу и хочу сказать об НЗ, связано с этим опытом. Точно знаю, что опыт онежских плаваний был дорог и для нее.
Поездки, путешествия вообще были для НЗ очень важной частью жизни. Ее режим был столь же необычен, сколь эффективен. Несколько месяцев в году она работала (писала статьи и монографии), что называется, не поднимая головы. Этот период кончался совсем уж лихорадочной «сдаванкой», после чего, свободная от рабочих обязательств, НЗ отправлялась в длинные поездки по всему миру и по своей стране. Она любила, как говорила, отдых на юге — в Пицунде. Но ее привлекала и противоположная — географически и ценностно — форма, а именно поездки на Север.
Роль русского Севера для культурного процесса тех лет была очень велика. Известно, что туда отправлялись интеллигентные туристы в поисках нетронутой природы, непримелькавшихся пейзажей с их особой сдержанной эстетикой. Там искали и находили шедевры деревянной архитектуры.
Все это, разумеется, привлекало и НЗ. А также нас, членов ее экипажа. Но были и важные дополнительные смыслы. Как уклад жизни русский Север исчезал. Северо-западная часть Онежского озера, подальше, чем знаменитые Кижи, куда отправлялась НЗ с друзьями, хранила еще тогда остатки деревень с трехэтажными домами, остатки старинных книг в этих домах. Но уже почти не встречались люди, которые строили эти дома и читали эти книги. Вместе с НЗ мы слушали рассказы старух про историю их мытарств. Редкое население, измученное коллективизацией, угонами на строительство Беломорканала, разорением рыболовства, затем лесной промышленности, к тому времени ушло в города, оставив по деревням доживать этих старух с ясным умом, да мужиков, вином избавлявшихся от ума. Мы становились невольными свидетелями того, как они губят себя и свои ставшие ничьими дома, теперь уже собственными руками довершая свое социальное уничтожение.
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Как я стала киноведом - Нея Зоркая», после закрытия браузера.