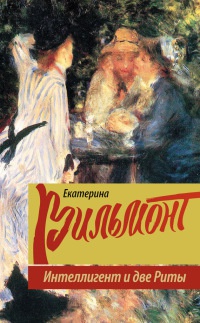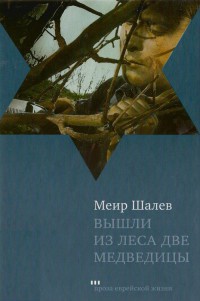Читать книгу "Незадолго до ностальгии - Владимир Очеретный"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Они отправились бродить по городу и кое-что выяснили о Кафке — в музее знаменитых теней уроженцев Праги этому обычному юристу была посвящена целая экспозиция.
Обычному да необычному. Никто не мог сказать достоверно, чем так исключительно было его место под солнцем, однако факт оставался фактом: его тень была заметно короче, чем даже у членов августейшей семьи правящей династии Габсбургов. При жизни Франца имперская канцелярия Теней их Величеств и Высочеств билась об эту загадку (они называли её проблемой) своими лучшими умами, но так и не расколола. И потому предпочла пустить в ход проверенные средства: установила негласный надзор и создавала Францу репутацию парня не в себе — дескать, что и взять с сумасшедшего. Надзор, судя по обилию архивных донесений, был тщательный, но не слишком тонкий: Франц не раз о нём догадывался. Он неоднократно порывался попасть на приём в высшие инстанции для объяснения, в чём конкретно его подозревают, но ещё на нижних этажах встречал снисходительное непонимание, о чём идёт речь, и вежливые заверения, что у полиции к нему претензий нет. Страх, что однажды его схватят и станут судить за преступление, о котором он и понятия не имеет, кажется, остался у Франца до конца жизни — даже и после распада A-В империи.
Посвящённая ему экспозиция называлась «Он унёс свою тайну с собой», что звучало, пожалуй, выспренно, но точно отражало положение дел: от Франца осталось несколько опубликованных при жизни рассказов, талантливых и необычных (но ведь в то тревожно-смутное время между двумя мировыми войнами многих тянуло писать необычно), остальные бумаги, согласно последней воле, были сожжены. Однако уже перед самой Второй мировой то тут, то там стали появляться люди, кого манила тайна его неопознанной гениальности. И, несмотря на то, что первое поколение кафкианцев было почти полностью выбито войной (а вместе с ними пропали и многие из тех бесценных документов, которые удалось собрать по сравнительно горячим следам), постепенно возникло целое международное сообщество приверженцев Франца. Оно проводило свои конгрессы и конференции, намечало мероприятия по почитанию памяти Кафки, состояло в дружеских отношениях с сообществами альтернативных шекспироведов и разгадчиков теоремы Ферма (печально и незаметно растаявшее после публикации работы Эндрю Уайлса), но сторонилось уфологов, предлагавших считать Франца космическим пришельцем, представителем более развитой цивилизации (возможно, отбывавшим на Земле наказание за какой-нибудь космический грех), а также рериховцев, видевших в фигуре Франца черты посвященного — посланника Шамбалы (с пока невыясненной миссией). Благодаря кафкианцам, собственно, и была открыта экспозиция в музее знаменитых теней: кафкианцы сделали Кафку популярным (не в попсовых массах, разумеется, а среди тех, кто понимает).
— Габсбурги — это те, которые ничего не забыли и ничему не научились? — тихо спросила Варвара под пафосный айн-цвай-драй экскурсовода.
— Те были Бурбонами, — шепнул он в ответ, — они с Габсбургами как раз враждовали. К временам Франца Бурбоны уже потеряли трон.
Она хихикнула:
— Смешная фамилия — Бурбоны. У нас в школе с такой задразнили бы!..
Экскурсовод бросил на них строгий австро-венгерский взгляд: казалось, сейчас он потребует их дневники и оставит без обеда. Киш тут же взял Варвару за руку и шагнул вперёд, прикрывая её собой от экскурсовода и давая последнему понять, что при любом замечании в адрес Варвары тот будет иметь дело с ним, Кишем.
Затем, для полноты впечатлений, они выслушали тот же рассказ в чешском варианте (ведь Франц прекрасно разговаривал и на чешском) — более мягком, без ностальгии по имперскому величию, но не лишённом исторических комплексов. И, купив на прощанье большие круглые значки с портретом Франца, вышли из музейного полумрака в дневное пекло.
— Возможно, он был гениальным писателем, — задумчиво произнесла Варвара, щурясь от яркого солнца. И, словно извиняясь за высказанную банальность, добавила: — Во всяком случае, это первое, что приходит в голову.
— Не исключено, — согласился Киш. — Но и не обязательно. Мы же не знаем, что было в его сгоревших бумагах. Если это были романы или рассказы, то что мешало ему напечатать их при жизни? Ведь что-то он опубликовал! Может, эти опубликованные рассказы были только для отвода глаз, чтобы скрыть нечто более важное? То, что составляло его истинную сущность? Вдруг это было что-то, связанное с его профессией — только противоположное? Помните того сельского католического священника, который оставил после себя рукопись, которую Вольтер назвал катехизисом атеизма?
— У него тоже была выдающаяся тень? — заинтересовалась она.
— Вроде бы нет, — сказал он, подумав, — иначе бы об этом непременно упомянули. Наверное, тень как тень. Скорей всего, длиннющая, как колокольня. Но я не об этом. Вдруг записи Франца были такой анархической бомбой? Представьте: юрист и — революционер! Законник, призывающий к мятежу!
— Я плохо знаю историю, — призналась она. — Но это же вроде бы не первый случай юриста-революционера — возьмите хотя бы Ленина или Керенского: несчастные люди…
— Франц тоже был несчастным, — напомнил он. — Но вы правы: одной революционностью тут не объяснишь. Да и, скорей всего, имперская канцелярия это бы вычислила — наверное, они и боялись чего-то в этом роде… Тогда, может, это было что-то вроде утопии — литературное произведение с социальным содержанием? Талантливое произведение с необычным взглядом на мироустройство? Вроде Мора или Кампанеллы, но в совершенно другом направлении?
— «В совершенно другом» — это антиутопия? — уточнила Варвара.
— Нет-нет-нет, — Киш категорически замотал головой, — утопия и антиутопия — это как раз одно и то же. И там, и там — вполне себе тотальный контроль всего и вся, вершители и исполнители, строгое кастовое общество с чётко дозированной системой прав, обязанностей и привилегий. Просто Платон, Кампанелла, Мор и Маркс с Энгельсом подают это как идеал, а, скажем, Замятин, Брэдбери, Оруэлл и Былинский — как ужас. Это просто две разные точки зрения на одно и то же гипотетическое устройство общества. Иногда до смешного: у Платона в идеальном государстве на высшей ступени стоят философы, а на нижней — рабы. Сам он был философом, и ему такое положение дел нравилось, а антиутопии написаны с позиции раба, откуда идиллия выглядит страшноватенько. Именно что написаны: собственно, это всего лишь два литературных жанра, причём второй — зеркальное отражение первого. Или, верней, антиутопия — это тень утопии, потому что не будь утопии, не возникла бы и антиутопия: вначале создавался некий идеал, пусть и ошибочный, и только потом стали появляться его разоблачения, и наоборот быть не могло: пока нечего разоблачать, разоблачение невозможно в принципе.
— Антиутопия — тень утопии? — заинтересованно протянула Варвара. — Интересная мысль…
— Тень или продолжение, — уточнил Киш, — в конце концов, почти все мы начинаем с утопического восприятия жизни, а потом каждый находит свою антиутопию… Правда, есть индивидуумы, которые умудряются снова превратить антиутопию в свою личную утопию: обычно таких людей и называют успешными. Но сейчас я не об этом, — он вернулся к начальной мысли. — «Совсем другое» — это не противоположное, а другое. Не «мокрое — сухое», а «мокрое — жёлтое» или «мокрое — канцелярская скрепка», или «мокрое — постпозитивный артикль». И вот я думаю: вдруг Франц описал общество с кодексом на принципиально новых основах права? Или это было что-то совсем далёкое от мира — что-нибудь мистическое? Или что-то научное — какое-нибудь невероятное открытие, которое он интуитивно установил, но не мог доказать? Или, например, умел путешествовать во времени с помощью генетической памяти?
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Незадолго до ностальгии - Владимир Очеретный», после закрытия браузера.