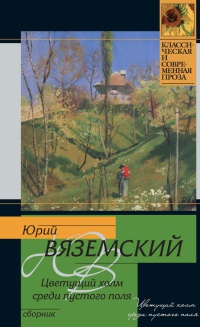Читать книгу "Спокойные поля - Александр Гольдштейн"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Найроби, — поводит накачанным торсом А.Л., — люблю разложение. Белая Африка на задворках.
— Карибы, — стараюсь попасть ему в тон, — под навесом из пальмы тетка варит в котле бобы, муж, морщинистая черепаха, щерится бугорками хрящей, зубы сгнили давно, огольцы дразнят мула, впряженного в колымагу, ртутная молодость, оплот беспорядков и нестроений, наблюдаема полицейскими в джипе, мимо которых, и тут уж полиция отвлечется, на транспортных дорожках катят женские статуи с тюками на головах, мяч футбольный, независимый флаг, пусть музыка наддаст, все запляшут.
— Рэгги ямайские, — напрягает бицепс А.Л., — листья травы и всеобщий обдолб, лев Сиона хлещет хвостом в Эфиопии. Пойдем, конферанс — это надолго.
Но этим ведь не исчерпывалось. Дух Найроби, дух белой Африки в светской столице евреев проник в отдельные, частные, числом меньше дюжины, не сдавшиеся деловому оброку городские места, в лабиринте отрадных кварталов их трудно было найти, я нюхнул не ища, всплыв случайно по адресу. Женщины и юроды, вот кто действительно держал атмосферу, выстраивал перспективу, настраивал глаз; женщины и юроды, начинаю вторыми — они были рядом со мною, на расстоянии пешего хода или даже с доставкой.
Не успел я обжиться в двух арендованных комнатках на Бен-Йегуде, по улице, разостлавшейся неторопливо вдоль моря, в завитках антикварных, кондитерских, нумизматических, винных, по улице деликатной и человечной, вечереющей с таким снисхождением к душам смутным, унылым, вялым, тряпичным, скукоженным, как будто закладкою ведало само Врачевание, из храма Асклепию в излучине чопорного Макса Нордау, не успел я составить свой скарб (утопить свою скорбь, разгладить свой горб), как мне сунул ладошку под ребра щупленький бородатый очкарик не старше пятидесяти, лысина благочестиво прикрыта ермолкой: несколько шекелей, сигарету. Приняв его за обычного попрошайку, я изрядно ошибся, он был почетным гражданином особнячка, где мне повезло стать новоселом-приблудой, владелец квартиры, доставшейся от несчастных родителей.
Умственный инвалид, окормляемый государством (пенсия, приходящие на дом опекуны) и теткой, надзирающей за неубыванием ренты, в деньгах он не нуждался, потому что не знал, как их тратить, это делали за него названные взрослые люди, но сила денег такова, что он эту силу почувствовал, этой силой разбередился, почувствовал привлекательность мелких блестящих, почти невесомых монеток и тоже не весящих ничего сигарет (курить научился, ритмично вдыхал, выдыхал) и теперь день-деньской околачивался на тротуаре. Бескорыстная мания, неутолимый заскок — на дрожащих от возбуждения ножках, не ощущая усталости, с узенькой памятью, стертой и застланной похотью, той единственной похотью, чьим содержанием были действие, смелость, азарт, а не жалкое изверженье отростка в уборной, одолевая всех и каждого, каждого поперечного-встречного, каждого, кого угораздило задержаться, свободно подваливал шесть раз в полчаса, пока не вызверивались. Слава его возрастала, образ мужал и оттачивался, бороденка топорщилась. Жемчужина морского проспекта, годами рукоплескавшего неотступному тексту («несколько шекелей, сигарету»), он всем своим хлипким, железно отлаженным тельцем раздувался от артистической гордости на подмостках, там, где ему не было, не могло быть соперников, ибо и профессиональные корпорации пасовали пред одержимостью выставляемых напоказ задушевностей, и только один человек с той же улицы понятия не имел о триумфе, целиком поглощаемый собственным.
Крепенький, от макушки до пят в полном обладании силы огурчик, под семьдесят, немного и за. С клавиатурою впадинок, жилок, морщинок подвижная маска, французистый комик в отставке, варшавское довоенное франтовство: габардиновый плащ силена, галстук, ботинки зеркального отражения, он не гулял, не прогуливался, наипаче не шаркал (не шлепал, не колдыбал, не влачился), но энергично, тамбурмажором без барабана прокладывал путь, в правой руке трость или свернутый натуго бумажный рулон, орудия представления. Десять шагов — его метр, отвергающий вольности ритма, — и подбрасывал трость, подкидывал рулонную трубку, бросал высоко, иногда высоко-высоко, к птицам и к небесам, и молодогвардейским бейтаровским жестом к вождю, Жаботинскому подле короткоштанных мальчишек, к обожаемому, бледному от грудной жабы Жабо, выброшенною десницей ловил, широко улыбаясь. Не промахнулся ни разу, ни единожды в годы и годы, глазомер вымерял, пальцы твердо сжимались, костно-мышечный остов пел гимн. Его знали все, он не знался ни с кем, независимый сгусток, бесстрашный паяц, пролагатель. С отпечатанным превосходством: запрет откликаться, входить в отношения с публикой, профанной толпою зевак, сменяемым плебсом его неразменного одиночества — что не мешало собачнику безответно раскланиваться. Впереди мать и сын, громадины, смиренномудрые меланхолики, поводок и намордник были бы оскорблением; прелестные, в складках свисающей кожи чудовища, темно-асфальтовой, носорожьей, как бы заплаканы очи, тяжеловозы, ломовики. Он за ними еще тяжелей, на кривоватых ногах пожилой, хмурый, лобастый легионер, обойденный под Кельном виноградной землицей, неприкаянный странник, говорили, боксер, с ударом, но не всегда прочной защитой, что дурно сказалось в полуфинале на первенстве Трансиорданской железной дороги, следствием коего — воспитание псов, нешуточная к ним прикипелость, привязанность в бессемейности, наконец он возглавил семью. В лавке Рубина бесплатно давали обрезки в мешочках из целлофана, сам Рубин, уважаемый галициец, любивший румынское обращение, так что боксер, не мастак на слова, жесткие, как сухари для его разбитого рта, вел речь по-румынски, речь назывную, нагую, сам Рубин, в забрызганном фартуке и перчатках, рубил, строгал, кромсал и отпиливал: собачки у вас всем собачкам собачки. Кофе пил в угловом шалмане на Буграшов, мать и сын ложились под стол, за отдел происшествий денег не брали, псы задремывали, отпив половину горячей бурды из стакана, он зажмуривался и клевал носом тоже, всех будил под вечер юноша-йеменец, подавальщик в узорном жилете, круги под глазами от русской настырной пленительной дряни, девчонки, нагло врущей о возрасте, выходили втроем на ту же, откуда пришли, Бен-Йегуду, брели вправо мимо того и другого, мимо кондитерской Сильвы Манор, два пса, мать и сын, человек, их отец.
Девушка из Йоханнесбурга раскладывала у Сильвы печенье, звездочки курабье, маковые конверты, уши с вареньем, двухслойные сливочно-шоколадные ромбы, только ль раскладывала на масляных противнях, жестяных подносах, фарфоровых блюдах, кое-что выпекала вот этими дорогими в мелковолдырных ожогах, царапинах, невзрачных колечках, иначе быть не могло, так я думаю, так мы с ней думали, с ней, светлоглазым скуластым хипповым цветком, но не вслух, вслух поэзия венгров, Эндре Ади, Аттила Йожеф, писала о Миклоше Радноти по-английски, на африкаанс. Радноти Миклош, у венгров фамилия первой, тяготился еврейством. Венгерский поэт, если речь в его жилах, в крови, а звездная мантия кафоличества, причастности праобразам всеединства, укрыла и эти слабосильные плечи, не согретые сегедским серым плащиком, ни будапештским пальто, щегольское, для Люксембургского сада, убывает под выкрики в спину из теплородственной замкнутой общности, он со всеми и в слове венгерском. Непереводимое? Тем лучше, язык не слепец, переводимый из жалости через площадь. Креститься не надо, креститься необязательно, креститься необходимо, осените крестом. Смерть настигла со всеми, еврейская, в общей работной толпе. Война на ущербе, гнали беспланово, наобум, по зарослям, пустошам и проселкам, он был мощами, грудой костей в погребальном ларце, остановив, дали команду рыть ров, расстреляли, те, кого расстреляли, не смогли себя сами засыпать. Вырыли, когда немцы сдались от усталости, в пиджачном кармане, под щегольским, для Люксембургского сада, пальто поэма столбцами в крови, посередине столб воздуха, разрыв, размыкание — ритм перебит, восстанавливаясь в соседнем столбце. Нынче хрестоматийное, приходи завтра, дорасскажу.
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Спокойные поля - Александр Гольдштейн», после закрытия браузера.