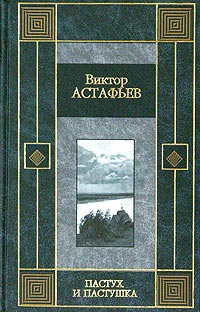Читать книгу "Царь-рыба - Виктор Астафьев"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– цинга, люто голодное, люто холодное – миньте нас, киньте нас, уйдите на посолонь, закружитесь по ветру, растопитесь от воску ярого, ослепните от огня бегучего, оглохните от слова клятвенного, околейте от креста святого! Кто бел-горюч камень – Алатырь изгложет, тот мой заговор переможет! Ни днем, ни ночью, ни по утренней заре, ни по вечерней, ни в обыден, ни мужик, ни колдун с колдуньей, ни баба, ни пожилой, ни старый, ни сама тундряная ведьма с тем словом моим, заклятым, верным не совладают, не перемогнут его. Аминь!..»
Прилепил старшой свечу к столу, умолк в изнеможении. Избушка осветилась, бодрее в ней сделалось, не то что от лучины и печки. Керосин и свечи берегли, освещались подручными средствами, жгли чаще тряпицу в рыбьем жире. Парни на нары забрались, ноги поджали, во все глаза глядят на старшого. А он разлил спирт по кружкам, приказал двигаться к столу, поднять кружки, держать их на весу и глядеть в глаза друг дружке, пока он, старшой, будет творить клятву, и все слова повторять следом.
Парни сперва с пугливой ухмылкой, как филины, булькали, рыгали какую-то присказку насчет моря-океана, острова Буяна, зверя рыскучего, снега сыпучего, но поворотилось и на серьез:
– Будет ли, не будет ли удача – жить союзно. Поглянется, не поглянется какое слово старшого – не прекословить и зла никакого друг на дружку не копить. Все выкладай, худое ли, хорошее. День кончился, ночь пошла. Снегу на зимовье наметет – могила. Работать, двигаться и разговаривать, разговаривать. Время гиблое, не вступ ногу жить, гибель, стало быть. Долбить корыта в пастях и кулемах, если зверек попадет, не плющило б его, не погрызли б другие зверьки и мыши. Ловушек ставить больше, навального песца не будет, следует его стараньем брать, накрохи не жалеть, пусть воняет, живность приваживает. Свету мало – пятнышко за сутки, значит, бегать быстро, но беречь себя, не запариваться – один простынет, захворает – хана всем. Договор наш кровью скреплен, такой договор смертельный. Добыть бы жильной крови, выпить гольную, да, вас жалеючи, не стал тела молодые уродовать… – Старшой покидал щепоткой пальцы над кружкой, хукнул, отбрасывая из себя воздух, выплеснул наговорное зелье в рот, утерся рукой, зажевал питье подвяленным хвостом пелядки. Молодые его связчики с отвращением выпили розовый от крови спирт, передернулись, захрустели рыбой.
– Да, вот еще что, парни, – подождав, когда они отдышатся и закусят, продолжал старшой, – соленого много не лопать, снег не хапать, с хлебом аккуратней – стряпаете, мучкой сорите. Шабурку на норму! Распустил пузо, что генерал! И помните всякий час, всякую минуту: в тундре заблудиться страшнее, чем в нехоженой тайге.
– Да ладно, – остановили они старшого, – хватит права-то качать!
И потекли часы, складывающиеся в длинные сутки, сутки в еще более длинные недели. Песец не шел. Попалось в пасти две лисы, пустобрюхих, костлявых, в худошерстной шкуре; призаблудился как-то горностай – занесло его в лесок, заваленный снегом до колючих вершин. По берегам Дудыпты и возле озера хорошо ловилась куропатка в силки, пока не задавило сугробами стланики. Но начались метели, и кончилась всякая работа. Забавлялись полярными совами. Воткнут в тундре шест или палку, на верхушку капкан приладят – сова видит в ночи и в пургу, не облетит никакую мету – ей тоже хочется на чем-нибудь твердом посидеть, покрасоваться. Ели сов. Не куропатка, конечно, мясо горчит, горелой овчиной или мышами пахнет, зато пуху, пуху от совы, пенистого, легкого – вороха! Вот бы радости бабам, да где они, бабы-то?
Залегла зима по Пясине, по Дудыпте, по всему Таймыру, сровняла снегом впадины речек с берегами, ухни – напурхаешься, пока вылезешь. Снег еще не перемерз, рыхлый, еще лицо до крови не сечет, слава богу. Маячившие у приморья скалы растворила, вобрала в себя все та же безгласная ночь. Лесок, островком ершившийся средь тундры, захоронило снегом. Переливались, искрили до рези в глазах снега, да небо, чем дальше в зиму, тем живее светилось и двигалось. Но уже не пугало и не завораживало северное сияние охотников, да и достигало оно земли все реже и слабей – подступала пора диких, вольных ветров и обвальных метелей. В распогодье охотники спешили при свете позарей пробежаться по ловушкам, со слабо теплящейся надеждой на удачу. Вот и ухнула полярная метель, загнала промысловиков в зимовье, запечатала их в избушке, залепила окно, закупорила дверь, загнала в снежный забой. Лишь труба стойко торчала из снега, соря по ветру искрами, клубя низкий живой дымок.
Время двигалось еле-еле, разговаривать охотникам не о чем – все переговорили; делать по дому нечего – все переделали, а ветер все дичей, яростней. Подняло снег над тундрой, воедино слились земля и небо, вместе кружась, летели они в какие-то пространствия, где никакой тверди нет, и охотничья избушка, стиснутая снегами, выплевывая трубою дым, тоже летела, вертелась средь воя, свиста и лешачьего хохота. В замороженном окне едва приметным бликом шевелился отсвет печного огня, тыкался жучком туда-сюда, отыскивая щелку в толстых натеках льда, и. лишь эта капелька света, эта звездочка, проткнувшаяся в кромешную тьму, и напоминала о стойком существовании мироздания.
Время суток – день, ночь определялись по часам да еще по Шабурке. Заспавшийся в избушке кобелишка раз в сутки просился на волю и к такой же норме приучал своих хозяев, которые безвольно погружались в молчаливость, расслаблялись от безделья, ленились отгребать снег от избушки, подметать пол и даже варить еду. Старшой за шкирку стаскивал покрученников с нар, заставлял заниматься физзарядкой, придумывал заделье или повествовал о своей жизни, и такая она у него оказалась необыкновенная, столькими приключениями наполненная, что хватило рассказов надолго. Парни слушали и дивились: сколь может повидать, пережить, изведать один человек, и советовали старшому, пока делать нечего, «составить роман» на бумаге. Старшой соглашался, да бумаги-то в избушке мало, всего несколько тетрадок, потом уж, на старости лет как-нибудь засядет составлять роман, а пока слушай, парни, дальше.
Лютая зима, ветер, пронзающий не только тело, но и душу, приучают всякие необходимые отправления делать по-птичьи, почти на лету. Архип не мог приноровиться к такому вихревому режиму, трудно все в него входило, еще трудней выходило. Он до того застывал на ветру, что заскакивал в зимовье со штанами в беремя, не в силах уже застегнуть их. Однажды и вовсе подзадержался Архип на воле. Старшой выслал Колю за напарником. Набрасывая на плечи телогрейку, Коля стал полниться нежданным гневом: «Разорвало б обжору! Нашел время рассиживаться! Садану дрыном по хребту – будет знать!»
В промысловую бригаду затащил Архипа Коля. Работали они вместе в таксопарке: один шофером, другой слесарем. Архип – выходец из старообрядцев, хотя медлителен умом и на руку не спор, но работящ, бережлив, по возможности на свое не выпьет. Надежным, крепким, главное, послушным артельщиком казался Архип и неожиданно первым помутнел, чаще и чаще огрызается, поссориться норовит. Поначалу справлялись с собой Коля и бугор, старались не обращать внимания на брюзгу с таким редким, древним именем. Но вот стало чем-то их задевать все в Архипе, даже имя его, которым прежде потешались, сделалось им неприятно.
Архипа возле зимовья не оказалось. Коля взухал раз, другой. Голос его словно бы отламывало ото рта и тут же закручивало ветром, глушило снегом. Старшой, услышав крик, зарычал, подпрыгнул, шапку надернул, Шабурку выбросил из-под нар в снеговую круговерть, сам метнулся следом, зверски матерясь.
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Царь-рыба - Виктор Астафьев», после закрытия браузера.