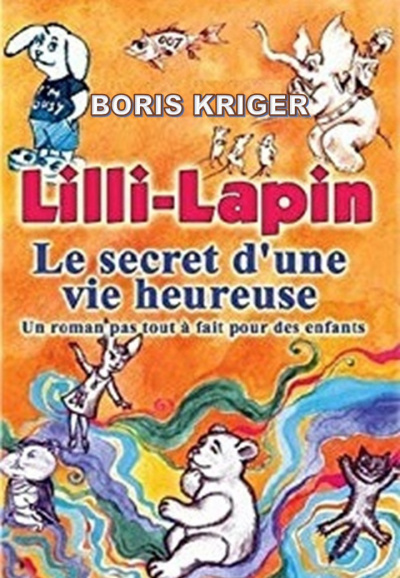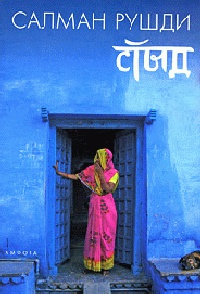Читать книгу "Книга стыда. Стыд в истории литературы - Жан-Пьер Мартен"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Хорошо видно, что нас все время водят за нос: на политическом поприще все тончайшие нюансы стыда промениваются на морализирующее, легко управляемое чувство, сходное с чувством вины. Для политика изначальный стыд — это тяжкое бремя. «Марксизм останавливается перед внутренней жизнью», — говорит Маргерит Дюрас; не только марксизм, но и всякое политическое мнение, всякая общественная жизнь останавливается перед внутренней жизнью. Категоричность радикала уничтожает навязчивый стыд происхождения, как и стыд телесного несовершенства, или превращает его в инструмент, лишая всякой эмоциональной наполненности, всяких внутренних терзаний. Радикалу, как и политику, требуются не связанные никакими узами, мобилизованные тела, примитивные носители чувства вины, которые, не оглядываясь назад, могут воплощать собой безупречную идентичность.
* * *Итак, мы должны пойти дальше по пути признания стыда как тайного, двойственного чувства, в котором смешиваются и сталкиваются личное и стадное и которое в конечном счете не в силах найти слова, чтобы выразить себя в сфере социального. Сколь бы всеобщим ни казался порой стыд, он подчеркивает непонимание между Мной и Другим, между моей маленькой историей и Большой. Он выражает неустранимый изъян, неразрешимую противоречивость субъекта, запутавшегося в своих планах, стремящегося принадлежать к общности, сделаться, подобно другим, гражданином или солдатом и одновременно неспособного осуществить это стремление, раздавленного этой неспособностью и превращающего ее в одиночество, в просветленность или в манию преследования.
Так что же, наряду с другими возможностями, может дать эта драма разорванного существа, снедаемого завистью к человеку действия, неспособного вообще удалиться от мира, подобно святому или мистику, против воли находящего убежище в воображаемом мире слов? Помимо других возможностей, она дает существо, которое называется писатель.
Об изобретении литературы как порнографии
(Руссо, Достоевский и другие)
Стыд есть везде, где есть «тайна».
Фридрих НицшеО, если бы все могло быть высказано и таким образом высвобождено: мы можем только мечтать об этом, воображая себе свободное слово! Если бы все могло быть явлено на свет — инцест, изнасилование, траур, онанизм, наслаждение, измена, извращение, грех, бессилие, все нижнее белье Истории и интимной жизни… Intus et in cute…[17] С одной стороны, подобная мечта как раз и стала сегодня мечтой писателя: получив привилегию вызывать на очную ставку свою собственную тайну, он делает нас участниками освобождения. В итоге он выполняет ту задачу проституирования и экзорцизма, которую возлагал на литературу Фрейд: «Создатель литературных произведений дает нам отныне право наслаждаться нашими собственными фантазиями, без упрека и без стыда».
Так ли надежна эта чудесная операция? Тайна кроется в детских годах и в происхождении: Руссо сказал об этом раньше Фрейда и, что гораздо важнее, по-другому. Именно там истоки нашего первородного стыда, ребяческие в обоих смыслах этого слова: детские и незрелые. Но исповедальная литература — это когда о постыдном говорят вслух даже в большей степени, чем держат постыдное в себе, это повествование, воскрешающее давний стыд и пускающее в ход одновременно и силу, и бессилие откровенности. Она уделяет столько внимания возмутительным, непристойным и «зачастую смешным» подробностям — всему тому, что Стендаль назвал «неудачами самолюбия», — не только для того, чтобы углубиться в тайну, но и для того, чтобы восстановить в процессе письма саму ситуацию признания и ту опасность, которую она несет с собой. Эту мысль блистательно выразил Руссо: «…Всякий, кто прочтет мою „Исповедь“ беспристрастно, — если только это когда-нибудь случится, — поймет, что мои признания тем более унизительны и тяжелы, чем если б речь шла о большем зле, о котором не так стыдно говорить; но о нем я не говорил, потому что не делал его»[18]. Время писания было для Руссо временем бесчестья и слабости: тайна останется вне книги, в невозможной и безумной сиюминутности, в неадекватном восприятии.
Постоянно отодвигая границу между благопристойным и тем, о чем говорить нельзя, исповедальная литература придает более склонной к утвердительности мысли философов, антропологов или психоаналитиков форму вопроса. Тайна стыда в том смысле, как я понимаю его здесь, стыда напрасного, невыразимого, вызываемого скорее разорванным сознанием личности, нежели внешними по отношению к ней моральными ценностями, бросает вызов той лаборатории воображаемого, которую мы называем литературой.
У Достоевского она занимает центральное место. Но к самоэкзорцизму у него стремится не столько детство, сколько отрочество. По правде говоря, стыд — это груз наследства, которое подросток (а именно так называется важнейшая книга Достоевского) не перестает оплакивать. Но стыд — это еще и избыток рефлексии, на которую из-за этого обречен герой. «Надо мной смеялись все и всегда, — восклицает смешной человек. — Но не знали они и не догадывались о том, что если был человек на земле, больше всех знавший про то, что я смешон, так это был сам я…» С тех пор (особенно в «Братьях Карамазовых») то и дело слышится: «Какой стыд! Просто стыд!» Ведь пока стыд громко заявляет о себе, тайна, как мячик, перелетает от персонажа к персонажу. И от бессилия остается только впасть в негодование или в бешенство.
Прозрачный человек Жан-Жака и подпольный человек Федора Михайловича a priori достаточно далеки друг от друга. Идеал прозрачности, идеал искреннего человека, который мог бы говорить обо всем без утайки, — это утопия эпохи Просвещения. Подпольный человек, пресмыкающийся человек («Подполье, — замечает Рене Жирар, — это утопание, увязание в Другом») тесно связан с исторической судьбой русской интеллигенции в XIX веке. Несмотря на различный контекст, и Руссо, и Достоевский пишут в состоянии параноидальной одержимости унижением. На угрозу со стороны внешнего мира оба отвечают мазохизмом. Один — незаконный ребенок, деклассированный и лишившийся дома
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Книга стыда. Стыд в истории литературы - Жан-Пьер Мартен», после закрытия браузера.