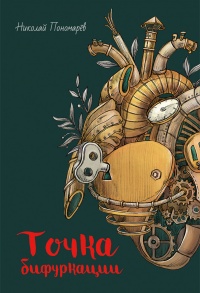Читать книгу "Там, где билось мое сердце - Себастьян Фолкс"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Не страшен мне Александр Перейра, твердил я себе, и роль его душеприказчика не страшна, где наша не пропадала.
В ближайшие выходные настрочил старику ответ: готов приехать, пусть только отпишет, когда ему удобнее меня принять.
Надо было уладить перед отъездом кое-какие дела и обязательно сходить к дантисту Он с Кипра, приемная у него на Харроу-роуд, всего в пятнадцати минутах ходьбы от моей собственной. В отличие от моего прежнего дантиста киприот, успев напихать тебе полный рот всяких штуковин, не задавал вопросов, что меня особенно к нему расположило. В холле я, пока ждал, листал рекламный журнал с загородными домами. На любой вкус: от шотландских поместий с огромными оленьими рощами до беленьких компактных бунгало в Суррее.
И вдруг – очень знакомый тисовый куст в форме яйца. Я не сразу сообразил, что выставлен на продажу мой дом, наша с мамой «Старая дубильня». На фото был центральный фасад, он выглядел более респектабельно, чем тот, каким я его помнил. И все же описания «роскошного интерьера» не совсем соответствовали действительности.
Мама умерла в 1970 году, и я продал дом некоему Петерсону, которому как раз требовался большой сад, чтобы детям было где погулять. Внутри дома с двадцатых годов мало что изменилось, зато он был просторный, и снаружи полно места, хоть в футбол играй, хоть на велосипеде катайся. К облупившимся стенам Петерсоны относились философски (как и мы с мамой), но, думаю, центральное отопление все-таки провели. Мне было приятно, что сад ухожен.
Когда мама ушла со своей фермы, то заложила дом, надо же было на что-то жить. А когда ее не стало, денег от продажи дома мне хватило, чтобы выплатить заклад и даже купить квартирку, правда, в самом невзрачном районе Лондона.
Рассматривая фото с викторианской кирпичной кладкой, я вспомнил последнюю встречу с мамой. Ей было тогда восемьдесят, и она уже несколько месяцев болела раком. После операции мы какое-то время надеялись, что худшее позади, но болезнь вернулась, и мама смирилась с неотвратимым. От станции я доехал на такси. Был морозный февральский день, солнце отражалось в затянутых льдом лужах, посверкивавших на пятидесяти акрах пологого, с небольшим креном, поля Покока. У подножья мемориала павшим воинам, что рядом с церковью, лежали плотные сугробы. Я открыл дверь своим ключом, сохранившимся со школьной поры. Войдя в холл, задрал голову и окликнул маму.
Ответа не последовало, я поднялся наверх и постучался в дверь спальни. Мама полулежала, опершись спиной на несколько подушек. Рядом на одеяле стоял поднос, в ногах примостился терьер Плам. На прикроватном столике стоял радиоприемник, включенный на программу «Радио-2». Передавали старые песни, которые объявлял диктор с легким акцентом.
– Кто за тобой ухаживает? – спросил я, усаживаясь на край кровати. Мама была бледной и сильно исхудавшей, седые слипшиеся прядки бессильно свисали вдоль щек. Я мысленно представил, как опухолевые клетки интенсивно множатся, пожирая мамины внутренности. Рак ужасен тем, что запускает в живом организме процессы, которые должны происходить после смерти. Он убивают человека постепенно, тихой сапой.
– Участковая медсестра приходит раз в день. Делия, наша продавщица в магазине, каждый вечер заглядывает узнать, не нужно ли чего.
– Квартиранты у тебя сейчас живут?
– Мистер Браун. Его нет дома.
– А когда в последний раз был врач?
– Кажется, в пятницу. Как у тебя дела, Роберт?
– Нормально. Он прописал тебе обезболивающее? Доза достаточная?
– Вот эти таблетки.
– Понятно. Я хочу с ним поговорить. Мог бы назначить что-нибудь посильнее. Где у тебя болит?
– В боку, почти не отпускает. Я так устала.
Видеть, как умирает самый родной человек, тяжкое испытание.
Отеки под глазами, сильно изменившееся, обтянутое кожей лицо. Но в глазах еще теплился свет. Сжимая худенькую ладонь, я думал о том, как много всего за долгие восемьдесят лет видели эти глаза и до чего все это теперь ни к чему. Было – не было… Да какая разница.
Мое собственное тело было в нормальном до неприличия состоянии. «Крепкое здоровье» – так это принято называть. Несмотря на всю глубину моего отчаянья, к нему примешивалась эгоистическая радость – оттого что я могу двигаться, не испытывая боли, оттого что легкие нормально дышат, а желудок хорошо переваривает. Чудеса, которых здоровые люди не замечают. Надо бы научиться их ценить.
…Разница все-таки была. Именно мамины глаза видели то, что было дорого и мне: папино лицо. Как часто, всматриваясь в них, я втайне надеялся увидеть на блестящей радужке крохотное отражение этого лица, наподобие отражения квадратика ярко освещенного окна или еще чего-то в этом роде. Вот смогу разглядеть папино лицо, и тогда оттуда, из маминых глаз, он мне улыбнется. Но в ее серо-голубых глазах светилось только ласковое изумление. Они помнили меня грудным младенцем и годовалым карапузом. Уходя навсегда, она заберет с собой незримые отпечатки мгновений, которых я не запомнил или просто забыл. Она заберет с собой плетеную колыбель рядом с ее кроватью; меня спящего, прижав голову к ее груди; мои первые слова, первые неуверенные шажки, разбитые коленки; дверь в классную комнату. Странноватых персонажей, которых всегда в избытке порождают времена краха, нищеты и голода. Для мамы подобные открытия были потрясением и ежедневным испытанием, бесконечными вызовами судьбы, а мне все эти дикости казались любопытными и даже веселили. Ну а теперь весь этот ворох открытии, вся эта пестрая череда переживании исчезнет в глубинах времени.
Тогда, ежась от холода в слякотных «вади» под Анцио, я отмечал, как легко мы воспринимаем смерть только что убитых товарищей. Дескать, что поделаешь, теперь они где-то там. А нам, выжившим, будет еще тяжелее, для того нас тут, на земле, все еще и держат.
Теперь, когда умирала мама, подобные лицемерные оправдания и уговоры не годились. Вместе с ней канет в небытие и часть меня самого. То, что казалось необычайно важным, все эти драгоценные мелочи из детских дней, когда я постепенно обретал свою сущность, свое «я», все сразу обесценится, станет кучей никому не нужного хлама.
Примерно час мы с ней разговаривали, и я пошел на кухню готовить яичницу и чай. Яичницу – болтунью, чай – крепкий, как она любила. Поставив сковороду на маленький огонь, я ворошил яичное месиво и думал о маме. Не видя ее, я мог отвлечься от своих переживаний по поводу грядущей потери.
Она родилась в 1877 году, когда страна праздновала золотой юбилей правления Виктории. У нас где-то сохранился ларчик с бархатной вставкой для монет, выпущенных в честь знаменательной даты.
Начальная школа, сытная еда, нормальная семья и мир, который неспешно двигался вперед, развивая науки, наращивая благополучие, внедряя в жизнь простых граждан все больше демократии… Мама еще мало что видела в этом мире и мало что тогда понимала. И в свои восемнадцать считала, что это осторожно налаживаемое процветание и есть норма. Это и есть «жизнь», которой будет жить и она.
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Там, где билось мое сердце - Себастьян Фолкс», после закрытия браузера.