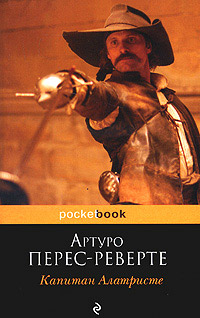Читать книгу "Корсары Леванта - Артуро Перес-Реверте"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Ту-рок, мавр
и са-ра-цин,
что ни пес,
то — су-кин сын,
глаз нель-зя
под-нять от сра-ма,
все — уб-люд-ки
А-вра-ама.
И вскоре все уже сгрудились у борта и, надрывая глотки, со свистом и улюлюканием кричали туркам что-то вроде того, мол, что суньтесь только снова, еще и не то вам будет, взгреем вас раза два и спать ляжем, а кишка тонка — убирайтесь тогда в свой Константинополь к своим отцам и братьям, если вы их, проходимцы безродные, знаете, да к матерям и сестрам своим, потаскухам подзаборным, для коих мы припасем, конечно, чего-нибудь особенного. Право, стоило взглянуть, как даже раненые, замотанные окровавленным тряпьем, привставали, приподнимались на локте, чтобы поулюлюкать с нами заодно да избыть в этих криках ярость и глухую тоскливую тревогу, грызшую нам нутро, — и вправду легче становилось, и, видно, понимая это, никто из начальства, даже сам дон Агустин Пиментель, не унимал нас. Даже напротив — сами горланили с нами заодно и поощряли орать и бесноваться еще пуще, сознавая, вероятно: таким, как мы, приговоренным к смерти, сгодится все, чтобы взять за свои головы как можно дороже. Ибо если турки хотят вывесить их на своих реях, пусть сначала попробуют отрубить.
В тот же вечер был неприятелю брошен еще один вызов — наше начальство велело зажечь кормовые фонари, дабы указать, где мы находимся. Мы покрепче подтянули найтовы, бросили якоря — глубина там была небольшая, — чтобы ветром, нежданно налетевшим, либо течением не унесло нас куда-нибудь не туда, после чего разрешено было спать-отдыхать, но — с оружием, а вахтенным велено смотреть в оба, как бы турки в темноте не предприняли новых поползновений. Ночь, однако, прошла спокойно — по-прежнему царило полное безветрие, и в прогалинах раздернувшихся туч проглянули звезды. Отстояв свое на вахте, я в полусне побрел, натыкаясь на спящих и слыша, как с обеих галер доносятся жалобные стоны и причитания раненых, и добрался до борта, где за подобием бруствера, устроенного из скатанных драных одеял, свернутых тросов, парусов и снастей, устроились капитан Алатристе, Гурриато-мавр и Себастьян Копонс, храпевший так, словно душа у него расставалась с телом. Всем троим, как равно и мне, посчастливилось не только пережить этот жуткий день, но и не получить ни царапины — разве что мавру слегка и неглубоко распороли ятаганом бок, но рану эту, предварительно плеснув на нее вином, хозяин мой, со сноровкой старого солдата вооружась большой иглой и суровой ниткой, самолично зашил, да не наглухо, а оставив сток для дурных гуморов.
Да, так вот, я подошел к ним и молча — от усталости у меня и язык не ворочался — пристроился рядом, но поначалу даже не смог забыться тяжким сном: в совершенное изнеможение привели меня схватка со щетинистым турком, а потом еще со сколькими-то. Думал я — полагаю, и не я один, а все — о том, что уготовит нам завтрашний день. Ни в цепях на гребной палубе турецкой галеры, ни в подземелье башни где-нибудь на Черном море я себя представить не мог, но будущее мое рисовалось столь же несомненно, сколь сомнительна была наша завтрашняя победа. Я спрашивал себя, как будет выглядеть, свисая с реи, моя голова и как понравится она Анхелике де Алькесар, если владычица моего сердца каким-то тайным зрением сумеет увидеть ее. Мне скажут, пожалуй, что подобные мысли способны увлечь человека в самую пучину беспросветного отчаяния, и что ж, отчасти это будет справедливо. Однако вспомните, что, как говорится, у того, кто в седле и кто под седлом, — думы разные. По-разному, знаете ли, смотришь на вещи, когда сидишь у пылающего камелька, или за столом, снедью уставленным, или нежишься в тепле перины — и когда месишь жидкую грязь в траншее, качаешься на дыбом встающей палубе галеры, когда казенные свои харчи, солдатскую пайку получаешь за то, что ежедневно ставишь жизнь и свободу на кон. Что говорить — отчаяние, оно, конечно, имело место. Но все же дело было наше такое — телячье, куда денешься: отчаяние как-то очень давно и естественно вошло в нашу жизнь. Мы, испанцы, со смертью накоротке, а потому умеем встречать ее достойно, более того — просто обязаны это делать, ибо, не в пример другим нациям, судим и оцениваем меж собой, кто как ведет себя в минуту опасности. Вот почему так неразрывно переплелись в нашем характере жестокость, щепетильность в вопросах чести и забота о репутации. И прав был Хорхе Манрике, утверждая, что столетия войны с исламом сделали из нас людей свободных, гордых и твердо помнящих свои права и привилегии, как и то, что бессмертием будет:
И к безгрешным, в вере твердым,
Под молитвы и рыданья
Смерть нагрянет,
Тем, кто бился с мавром гордым,
Избавленьем от страданий
Тяжких станет[35].
И это объясняет, почему же мы, выдубленные суровыми превратностями судьбы, вверив устам имя Христово, а дух — лезвию клинка, готовы были прожить последний свой день так же, как до этого проживали множество схожих с ним и будто готовивших нас к нему, принять свой жребий с безропотным смирением крестьянина, чьи посевы погублены градом, или рыбаря, чьи сети пришли пустыми, или матери, уверенной, что дитя ее умрет при рождении или будет еще в колыбели унесено горячкой. Ибо только те, кто превыше всего ценит житейские удобства и покой, наслаждения и изыски, кто малодушно отворачивается от действительности бытия, только те, говорю, сетуют на непомерность платы, которую на этой земле рано или поздно придется платить всем.
Грянул аркебузный выстрел, и мы приподнялись, прислушиваясь в тревоге. Даже раненые перестали стонать. Но продолжения не последовало, и мы вновь улеглись.
— Ложная тревога, — проворчал Копонс.
— Судьба… — философски заметил наш стоик Гурриато.
Я примостился подле, укрывшись, за неимением иного, своим рваным колетом, а сверху положив кирасу. Ночная роса уже вымочила настил палубы, пропитала одежду. Продрогнув, ближе придвинулся к капитану в поисках тепла и ощутил такой знакомый запах ременной кожи, стали, пота, пролитого в сегодняшнюю страду и давно уже просохшего, — я знал: он не подумает, что меня трясет от страха. Заметил: он не спит, но лежит неподвижно. Потом он очень осторожно откинул кусок драного парусинового полотнища, которым укрывался, и укутал им меня. Хоть я был уже не тот, что когда-то во Фландрии, но движение это согрело мне не столько тело — парус вообще неважная защита от холода, — сколько душу.
На рассвете раздали нам еще вина и сухарей, и, покуда мы отдавали дань скудному угощению, прозвучал приказ расковать тех гребцов, кто изъявит желание сражаться. Услышав такое, мы понимающе переглянулись: если уж на такое решились, то, значит, все, самый край пришел. Приказ не касался, понятное дело, турок, мавров и представителей наций, короне нашей враждебных — англичан и голландцев, — а всем остальным, если, конечно, покажут себя в бою и, главное, останутся живы, обещали по ходатайству нашего генерала скостить срока полностью или частично. Сосланным на галеры испанцам и иным, исповедующим католическую веру, это давало известный шанс, ибо, оставшись на веслах тонущей галеры, пошли бы они на дно с нею вместе: в сутолоке и панике терпящего бедствие судна никому и в голову не пришло бы снимать с них цепи — не до того; а выловили бы их, остались бы они в рабстве, но уже у турок, и ворочали веслами у них и на них, избавиться же от этой участи и получить свободу возможно было, только если отречешься от истинной веры и примешь ислам — в Испании, кстати говоря, раб, даже окрестившись, рабом оставался, — а прельщала такая стезя по причинам, которые понять нетрудно, хоть и многих, особенно молодых, однако число их вовсе не было столь велико, как принято думать, потому что даже для каторжанина вера есть дело столь серьезное, глубоко и прочно укорененное в душе, что большинство испанцев, взятых в плен турками и маврами, сохраняли веру эту, невзирая на жалкую жизнь в рабстве, и потому никак нельзя отнести к ним такие строки Мигеля де Сервантеса, который и сам досыта хлебнул и плена, и неволи, однако от веры не отступился:
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Корсары Леванта - Артуро Перес-Реверте», после закрытия браузера.