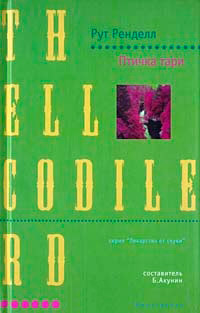Читать книгу "Бильярд в половине десятого - Генрих Белль"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Шрелла отправился дальше, протиснулся между словом "смерть" и скрещенными костями, миновал барак строителей, мимоходом успокоив ночного сторожа, который уже начал было предостерегающе размахивать руками, но опустил их, обезоруженный улыбкой Шреллы. Дойдя до самого края набережной, Шрелла увидел ржавые железные балки, на которых висели глыбы бетона; эти несокрушимые балки, продержавшиеся целых пятнадцать лет после взрыва, воочию демонстрировали высокое качество германской стали; за пустыми стальными воротами дорога шла мимо площадки для игры в гольф, а потом вновь терялась среди ослепительной зелени бескрайних свекловичных полей.
Там дальше было кафе "Бельвю". Вдоль набережной шла аллея. Справа тянулись спортивные площадки, где играли в лапту. Лапта! "Мяч, который забил Роберт". Он вспомнил, как они толкали киями бильярдные шары в пивной в Голландии; красный шар катился по зеленому полю, белый по зеленому; монотонная музыка шаров звучала почти так же, как грегорианская литургия, а в бесконечных геометрических фигурах, которые три шара прочерчивали на зеленом сукне, была своя строгая поэзия; никогда не принимай "причастия буйвола", покорно терпи истязания, "паси овец Моих" на пригородных лужайках, где играют в лапту, на Груффельштрассе и на Модестгассе, в английских предместьях и за тюремной решеткой, "паси овец Моих", где бы ты их ни встретил, даже тех, кто ничему не научился, кроме чтения Гельдерлина и Тракля, тех, кто пятнадцать лет подряд спрягает на классной доске: "Я вяжу, я вязал, я буду вязать, я вязал бы…" А в это время дети Неттлингера играют в бадминтон на безукоризненно подстриженных газонах – лучше всего их, кажется, подстригают англичане; в это время красивая, выхоленная жена Неттлингера – на редкость выхоленная – кричит с террасы своему мужу, покоящемуся в великолепном шезлонге: "Давай я подолью тебе капельку джина в лимонную воду". И Неттлингер отвечает: "Хорошо, только пусть капелька будет побольше!"; жена Неттлингера, восхищенная остроумием своего супруга, хихикает, подливает ему джина в стакан, а потом, выйдя в сад, садится рядом с ним в такой же красивый шезлонг и наблюдает за игрой старшей дочери в бадминтон; девушка чуточку слишком худая, немножко слишком костлявая, ее красивое лицо слишком серьезно; наигравшись до изнеможения, она кладет ракетку и садится на краю газона у ног папочки и мамочки ("Смотри только не простудись, родная") и спрашивает, как всегда серьезно: "Папочка, объясни мне толком, что такое демократия?" И вот для папочки наступает желанный миг, когда он может напустить на себя торжественный вид; он вынимает изо рта сигару, ставит стакан с лимонадом ("Сегодня ты куришь уже пятую сигару, Эрнст-Рудольф!") и начинает объяснять: "Демократия – это…"
Нет, нет, я не обращусь к тебе ни в частном порядке, ни в служебном, я не стану выяснять свой правовой статус. Как ты сказал? "Я делаю это бесплатно". В кафе "Цонз" я когда-то дал ребяческую клятву быть благородным, даже себе во вред; мое правовое положение останется невыясненным; возможно, впрочем, Роберт уже все выяснил с помощью динамита. Научился ли он за эти годы смеяться или по крайней мере улыбаться? Роберт был неизменно серьезен. Он не мог примириться с гибелью Ферди. План мести Роберт воплотил в формулы, он запечатлел их в своем мозгу и всюду носил с собой этот легкий груз – неопровержимые формулы; он хранил их на фельдфебельских и офицерских квартирах, держал их при себе шесть лет подряд и ни разу не рассмеялся. А ведь Ферди улыбался даже в ту минуту, когда его уводили; он был ангелом из предместья, выросшим на навозной куче Груффельштрассе. Только три квадратных сантиметра кожи на пальце Шреллы, дотронувшемся до кнопки звонка, ощутили прошлое; он вспомнил обожженные ноги учителя гимнастики и последнего агнца, убитого осколком; отец бесследно исчез, его убили даже не при попытке к бегству. И никто так и не нашел мяча, который забил Роберт.
Шрелла бросил окурок в реку, встал и медленно побрел обратно; он снова протиснулся между словом "смерть" и скрещенными костями, кивнул сторожу, которого потревожил, оглянулся на кафе "Бельвю" и зашагал вниз по чистой, пустынной автостраде, туда, где ослепительная зелень свекловичных полей, сверкавшая на солнце, сливалась с горизонтом; он знал, что шоссе в какой-то точке пересекает линию шестнадцатого номера, на шестнадцатом он за сорок пять пфеннигов доедет до вокзала; Шрелла мечтал поскорее очутиться в гостинице, теперь ему была по душе непритязательность этого случайного жилья, полная безличность обшарпанных гостиничных номеров, как две капли похожих один на другой; в гостинице не таяли ледяные узоры воспоминаний, там он не имел ни гражданства, ни родины; утром заспанный кельнер принесет ему невкусный завтрак, манжеты у кельнера окажутся не совсем чистыми, а грудь рубашки будет накрахмалена не так хорошо, как когда-то крахмалила мать; если кельнеру больше шестидесяти, он, возможно, рискнет задать ему вопрос: "Скажите, вы не знали кельнера по фамилии Шрелла?"
Он шел все дальше по пустынному, чистому шоссе; ослепительная зелень свекловичных полей простиралась до самого горизонта; у Шреллы не было с собой вещей, он сунул руки в карманы и бросил на дорогу несколько монет, как говорится, для Гензеля и Гретель. После смерти Эдит и отца, после смерти Ферди почтовые открытки стали для Шреллы единственно приемлемым средством связи с прошлым: "Дорогой Роберт, живу хорошо, надеюсь, ты тоже; передай, пожалуйста, привет племяннице и племяннику, которых я так и не видел, и твоему отцу". Двадцать два слова, слишком много слов; лучше все зачеркнуть и написать сначала: "Мне живется хорошо, надеюсь, тебе тоже, кланяйся Рут, Йозефу, твоему отцу"; одиннадцать слов; половины слов оказалось достаточно, чтобы выразить ту же мысль; зачем ездить к Фемелям, пожимать им руки, целую неделю не спрягать "я вяжу, я вязал, я буду вязать"; неужели лишь для того, чтобы убедиться, что ни Неттлингер, ни Груффельштрассе не изменились и что все осталось по-прежнему, кроме рук госпожи Тришлер?
Свекловичная ботва доходила до самого горизонта, казалось, небо покрыто было серебристо-зеленым оперением; где-то внизу в туннеле, покачиваясь, загрохотал шестнадцатый номер. Сорок пять пфеннигов; все подорожало. Наверное, Неттлингер еще не кончил объяснять, что такое демократия; смеркалось; голос Неттлингера стал мягче, дочь принесла ему из столовой плед – не то югославский, не то датский, не то финский, во всяком случае, прекрасной расцветки; девушка набросила плед на плечи отца, а потом снова присела у его ног, чтобы благоговейно внимать его словам; мать, которая готовила в это время вкусные острые сандвичи и разнообразные салаты, крикнула им из кухни: "Посидите еще в саду, детки, пожалуйста, сегодня такой чудесный день и все так очаровательно".
Образ Неттлингера, живший в его воображении, был более ясным, чем тот Неттлингер, которого он увидел при встрече; Шрелла представил себе, как Неттлингер кладет в рот кусочки филе, запивая их великолепным, лучшим, самым лучшим вином, и в то же время обдумывает, чем бы достойно увенчать свою трапезу – сыром, мороженым, тортом или омлетом. Бывший советник посольства, который прочел Неттлингеру и иже с ним курс "Как стать гурманом", сказал: "Не забывайте одного, господа: кроме знания предмета, пусть самого досконального, здесь требуется еще капелька, хотя бы капелька, индивидуальности".
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Бильярд в половине десятого - Генрих Белль», после закрытия браузера.