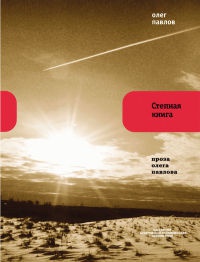Читать книгу "Рельефы ночи - Елена Крюкова"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Старый дядя Миша был литератор. «Вы писатель?» — спрашивала я его с замиранием сердца. Я не писатель, отвечал он важно, я — литературовед. «Господи, это же еще сложнее», — думала почтительно я. Дядя Миша читал лекции будущим писателям в Литературном институте: о Достоевском, о Льве Толстом, о Пушкине. Читая, то опуская голос до шепота, то громко взвывая, он внезапно останавливался, медленно вынимал из кармана пиджака огромный носовой платок и шумно, зычно сморкался в него. Аудитория восхищенно, безмолвно ждала. «И так… — возглашал дядя Миша, выбрасывая вперед маленькую руку, и сам он был маленький и складный, живчик такой, и дамы его любили, и студентки теряли от него голову, от его раскосых, калмыцких глаз, от его безжалостного жаркого ума, летящего острой стрелой, навылет через душу. — И так наш Пушкин… шалун, повеса… написав «Бориса Годунова»… и пошел!.. по своему! Голгофскому пути!»
И поворачивался артистично; и к двери триумфально, гордо шел.
И студенты, восторженно гудя, срывались со скамеек, подбегали к нему и хватали его, и поднимали на руки, и так, на руках, выносили из класса и несли по коридору.
«Русская сцена, милашечка, в моем лице потеряла великого актера, — хитро щурясь, говорил мне дядя Миша, когда мы с ним на кухне, за полночь, пили горячее молоко и ели липовый мед из маленьких фаянсовых розеток. — Мне это еще Корней Иваныч говорил». Какой Корней Иваныч, спрашивала я, глотая с ложки мед, неужели… «Да, да, Чуковский, самолично. Я на него, на Корнея, работал! И еще как работал! С его рукописями, как батрак, возился! Денно и нощно! А он, Корней, мне ни шиша не заплатил… Да, молод я был, зелен, думал — он гений, а гениям все позволено… А то, что гений может быть жадный, жа-а-а-адный… как любой обычный, грешный человек… я даже не допускал!..»
Мед дяде Мише привозили из Весьегонска. Студентка одна привозила. Северная, беленькая, как первый снежок, белоглазая девочка. Я думаю, она, как все девочки, была по уши в дядю Мишу влюблена. Она привозила в огромной кожаной сумке огромную банку, я таких банок никогда не видела, — литров на десять, наверное. Как стеклянная бочка, старинная немыслимая банка стояла на столе, и дядя Миша лазил в нее золоченой ложкой, а другим не позволял. Сам накладывал; сам дозу вычислял. «Молоко и мед на ночь — это самолучшее снотворное!» — назидательно говорил он, подняв палец, похожий на сухой гороховый стручок.
А тетя Люба смотрела мне в рот, как я ем. И я боялась, что я ее объем. Она смотрела на хлеб, сколько я съем хлеба; смотрела на суп, как я его хлебаю — медленно или быстро, и попрошу ли добавки. Дядя Миша покупал дорогую, дорогущую рыбу в магазине «РЫБА» на улице Горького, она теперь Тверская, как встарь, а тогда Горького еще была. Рыба называлась красиво, по-царски: семга, севрюга, осетрина горячего копчения. Очень дядя Миша рыбу любил — ну так на Волге же родился! Приносил домой, и, если я была у них в гостях, и меня тоже угощал: отрезал тоненькими такими кусочками, то-о-о-оненькими, сквозь рыбу эту можно было смотреть на просвет, как сквозь янтарь или цветное стекло. А тетя Люба дышала шумно и гневно, как паровоз, она негодовала молча, что я вот тут сижу и жру драгоценную, чужую рыбу. Мне казалось, у нее даже дым идет из ноздрей. И я глотала кусок рыбы, и он вставал у меня поперек горла, и я шла смущенно кашлять в совмещенный санузел.
Деньги мои закончились. Работа у меня имелась, но зарплату задерживали. Я растягивала батон с чаем без сахара на два дня, но и это не помогало. Домой, в угрюмый город, бедной моей маме, вечно ждущей кочевницу-дочь, я не звонила — расстраивать не хотела: мама думала, я вот-вот завоюю Москву и буду счастлива, богата и знаменита. Когда стало совсем невмоготу, я поехала к дяде Мише.
Сосчитала монеты: на метро и автобус до Левобережной хватало тика в тику. «Спасибо, Господи», — тихо сказала я грозному и далекому Богу.
«Библиотечная, на выход!..» — протяжно прогундосила кондукторша. Я выскочила под белую злую пену метели. Побежала в белом зимнем прибое к берегу, к берегу, к спасительному дому. «Ну что, беги, беги, сиротка, — зло-весело кричала я себе внутри, — может, дадут конфетку! Послужи, собачка! А ну-ка отними!»
На пороге меня встретили злые огромные, коровьи, светлые, как снятое молоко, глаза тети Любы, урожденной Марцинкевич, а прадед у нее был вообще Робер Ботэ, из рода герцогов де Гизов. Литовка тетя Люба была высокая, толстая, с густейшей русо-седой, серебряной косой, обвитой кренделем вокруг большой, как у коровы, головы. Она обожала стихи Цветаевой, называла ее по имени-отчеству — «Марина Ивановна» и упоенно читала вслух, сидя на кухонном диванишке и закинув большую, коровью ногу за ногу: «Спасибо вам и сердцем, и рукой, за то, что вы, меня не зная сами, так любите!..» При этом она качалась не хуже маятника — туда-сюда, туда-сюда. Она наслаждалась. Цветаева была почти запрещена. А Ахматова — уже почти разрешена.
— Тетя Люба, здравствуйте, — проблеяла я жалобно, — вот я приехала посоветоваться… с вами и с дядей Мишей…
Из комнаты вышла Верочка. Полы длинного атласного халата мели вечно грязный пол. Тетя Люба и Верочка ходили дома в халатах, пошитых собственноручно тетей Любой, а полы не мыли: иногда, очень редко, они подметали его мокрым веником, предварительно набросав на половицы старой мокрой заварки из слитого чайника, и тогда в комнатах пахло баней.
Странное было хозяйство: полы мели чаем, зубные щетки никогда не выбрасывались, копились в маленьких мешочках, а мешочки висели по стенам на гвоздиках; головы мылись, из экономии, чтоб шампуть не покупать, ржаным хлебом и яйцом; носовые платки, в невероятном изобилии, лежали в деревянных шкатулочках; когда являлись к дяде Мише гости, писатели и поэты, и приносили с собой водку и закуску, хозяева открывали настежь холодильник и в большую миску сметали все, что в холодильнике таилось: остатки сметаны, огрызок сливочного масла, последнее яйцо, соскребали со дна банки последнее варенье, мелко крошили засохшую колбасную жопку, все это посыпали сверху мукой и еще лили в миску старый, закисший кефир, — замешивали адское тесто, щедро приправляя его сахаром, солью и содой, задвигали миску в разожженную духовку, и такой полоумный пирог назывался «Гость на пороге». А еще по утрам дядя Миша варил неизменную овсянку, помешивая ее деревянной ложкой с длинной, как удочка, ручкой, варил долго и нудно, бесконечно пробуя, складывая губы трубочкой и дуя на ложку, и весело кричал мне, ночевальщице: «Такую кашку и сам Конан Дойль любил!»
— Здравствуй, Леночка, — протянула Верочка протяжно и манерно, чуть в нос, — мя-а-а-ау! Холодно на улице? Не поиграешь ли ты мне сегодня на пианино? Я так люблю, когда ты играешь Первую балладу Шопена! А лучше — Рахманинова! Этюд-картину ми-бемоль минор! Так люблю!
Я недавно, а мне уж казалось — давно, окончила в Москве Консерваторию по классу фортепьяно и органа, и пальцы мои еще выграны были в инструмент, еще не забыли твердой, жестокой, живой мякоти клавиш.
— Я с удовольствием поиграю! — сказала я слишком обрадованно.
— Ну проходи, чего стоишь-то! — нарочито весело воскликнула тетя Люба и холодными литовскими, герцогскими губами поцеловала меня в морозную щеку. — Сейчас испеку «Гость на пороге»! Мишенька, иди-ка сюда! Лена приехала! А что ты без звонка?
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Рельефы ночи - Елена Крюкова», после закрытия браузера.