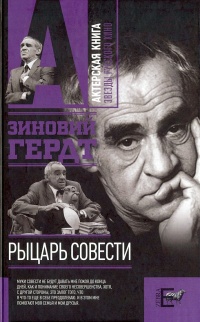Читать книгу "Мой Ницше, мой Фрейд... - Лу Саломе"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Но в целом дело складывается так, что в индивидуально отдаленных и внечеловеческих отнесенностях мы получаем необходимый покой, чтобы изживать их без ненависти. Ведь там, где наша индивидуальность видит себя загоняемой в любовную привязанность к другой индивидуальности, она тотчас вынуждена рисковать, вступая в борьбу за утверждение своего Я, причем с той же настойчивостью и радикальностью, с какими страстность и исключительность угрожают сохранению ее Я. Вынужденная взаимозависимость ненависти и любви, которую Вы всегда отмечали, проявляется уже при первом шаге, который мы делаем, выходя из известного благожелательного равнодушия, без преувеличения относящегося ко всему и даже к нам самим.
Абсолютно неправильно мы называем «ненавистью» то, что, каким бы брутальным, грубым или хладнокровным оно ни было, стремится к собственной пользе и преимуществу, однако не ведет к влеченческому столкновению с другим человеком, препятствующим в этом, – следовательно, не имеет сладострастного желания навредить ему. Ненависть, в смысле влечения, слепо следуя к цели, не просто опрокидывает встречающееся на пути препятствие, но и замирает возле него в жестоком наслаждении: только компонент сладострастия, спаянный с целью Я, позволяет распознать ненавидящего человека, которым иногда бывает любой из нас. Нам не так легко осознать свою ненависть, мы думаем, что нас охватило усилившееся неприятие, в то время как за этой сопряженной с Я деловой рационализацией разверзается жутчайшая бездна человеческих противоречий, – пусть даже видимая только словно через узкую темную щелку. Предметы своего неприятия люди предпочитают встречать корректно, даже вежливо, потому что так встреча быстрее заканчивается; жестокие терзания нелюбимого – всего лишь мучительны и задерживают цели Я: только эротически притягательное пробуждает жестокость, любовное влечение поглощается влечением к власти и перверсирует его в средство сладострастия. Такая сцепленность с другим человеком, – имеющая право существовать только в самом начале инфантильности, в неразличении Самости, – позднее может нанести подлинно жестокому человеку через сенсационное сопереживание причиненного им страдания такие раны, что он станет сверхчувствителен к любому чужому страданию. Здесь мы стоим на месте «реактивных» качеств, которые Вы с такой удивительной убедительностью раскрыли в человеке как противоположность позитивно наработанному, т. е. «сублимированному». Реактивное потому остается столь неопровержимо близким патологически угрожаемому, что то, что инфантильно наносит в нем ответный удар – посреди уже достигнутых упорядоченностей прочего развития, – снова смешивает в кучу Я– и Ты-отнесенности.
Но как же в нас не будет такой неразберихи, если мы всю жизнь, с одной стороны, должны оставаться в самих себе и, с другой стороны, должны включать в себя все то, что окружает нас внешним миром, потому что оно состоит из того же материала, что и мы, и, следовательно, вся отделенность от него, как и все соединение с ним должны скрещиваться в вечном противоречии. Ведь это неразрывное связывание того и другого вошло в мир вместе с ребенком с самого первого дня его жизни; от разрозненности, в которую видит себя вброшенной его не имеющая желаний всесущность, человек практически сразу бросается в обе стороны, и «любя», и «ненавидя», в преувеличения того, что мы впредь будем называть его «душой». При первом шоке, с которым мы сталкиваемся при рождении, мы ныряем в страх перед экзистенцией другого человека, заставляющей нас самих терпеть убытки, падать из всего в ничто (Фрейд: «Страх рождения – прообраз любого более позднего страха») словно из жизни в смерть. Однако одновременно, с первыми изменившимися жизненными движениями, эта тяга обратно в материнскую темноту также должна становиться уже неизбежным побуждением к спасению изувеченного остатка, которым мы только еще являемся, побуждением не дать редуцировать его еще больше, так чтобы смерть и жизнь перепутались между собой. Смерть и жизнь встречаются в том, что Вы окрестили изначальной кастрацией, в чем уже выражается, что из этого изначального события вырывается желание остаться живым, навстречу которому оттеснялось наше созревшее для рождения тело. То и другое, выгода и утрата, с самого начала сливаются в этом до такой степени, что наши душевные порывы фактически могут означать лишь одно: в начале была амбивалентность.
Пробившись из бессознательного, ствол души, – словно от первого соприкосновения с внешним воздухом, – делится надвое: обе части – вторичное выражение того, что еще соединяется в глубине, недоступно человеческому зрению. Именно в этом внутреннем факте свернул с нашего пути А. Адлер: он относил эротические влечения к влечению к значимости, оспаривал полноту их прав, он использовал их, как цветы, срезаемые под корень, отделяемые от корней, для того чтобы легкой рукой расставлять их по различным вазам. Я поначалу была поражена, когда недавно Ваша трактовка пары «любви и ненависти», преданности и агрессии, по крайней мере одной чертой стала отличаться от адлеровской меньше, чем прежде: тем, что Вы перестали принимать за исходную точку агрессивного компонента самоутверждающее обеспечение себя пространством снаружи, которое, если впустить его внутрь, превращается в насилие над нами самими, – пока постепенно не удастся самый душевно утонченный фокус, «обращение против собственной персоны». Теперь вместо этого влечение к агрессии у Вас имеет некоторую степень самостоятельности, не нуждающуюся сначала в усилении через внешнее притеснение, а поднимающую себя на высоту в своей собственной деструктивной тенденции. Вместо момента, в корне объединяющего оба направления влечения, влечение к власти, получающее удовольствие от деструкции, уходит от той общей последней мотивации, которая происходит из еще различного хотения быть всем и хотения все иметь (и которая до сих пор даже обращение против собственной персоны еще представляла допустимым в его раздражении из-за столкновения с собственными внутренними границами). Меня смущает то, как сложно все-таки понять ее, эту самовластность такого влечения к агрессии саму по себе, – ее едва ли можно проследить эмпирически и аналитически. (Я также вспоминаю работу Федерна, которому в его старании следовать за ней, чтобы ухватить влечение in nuce пришлось спуститься до психотического, туда, где психоз меланхолии – в своем тупом равнодушии, т. е. без удовольствия и немотивированно – ведет себя навязчиво деструктивно по отношению как к себе, так и к другим: но допустимо ли на основании психотического, которое как раз характеризуется наиболее полным разделением смеси наших влечений, сделать вывод о всезначимости такого рода заболевания и сцепленности, как если бы такая всезначимость, только более скрытая, лежала также и за нашей нормальностью, в которой влечения более соединены между собой?)
Как бы то ни было, вспоминая ранние годы нашего психоаналитического движения, я должна была согласиться: несмотря на гораздо меньшее подчеркивание тогда Вами обособившегося влечения к разрушению в сравнении с консервирующим влечением в нас, все мы когда-то все же стояли под угнетающим признанием его власти, поскольку чем больше удавалось раскопать человеческую душу, тем больше оно проявлялось. Противоположность дикой, полной ненависти необузданности к тому, к чему стремятся культура и социальность, при рассмотрении ее в обратном направлении казалась все более разительной, – но ведь нам было также известно, что только «первородный грех» самой индивидуации придает этому такую кажущность, будто она просто делает невидимой для нашего глаза великую, покоящуюся над этим невинность, поскольку доступность человека анализу начинается только с ней, и что оба заклятых врага все же рождены из братства по крови. Не является ли, между прочим, это также разрешением разногласий в часто разворачивающейся сейчас среди нас дискуссии о крайностях: преступниках и святых? (Это действительно справедливо не только, как упоминаете Вы, для более близкого к крайностям русского типа.) Преступнику, если подразумевать под ним человека влечений, подвергающегося влиянию инфантильности (или даже фиксированного), нужно было бы лишь вернуться укороченным путем туда, где поза его Я еще была бы раскрепощена в столь лабильную для сознания, что не до конца относилась бы даже к нему самому, – а скорее относилась бы к тому, в чем святой отбрасывает себя назад, более «самоотверженно» выкидывает себя в то, что объемлет его вместе со всем остальным. Это немного сняло бы груз чудовищности, бесчеловечности с «преступника», а «святого» немного спустило бы со сверхчеловеческого на ровную землю, – то и другое лишь на немного, потому что контраст остается сильным. Окультуренный гражданин остается посредине между ними, сама его культура против таких насильственных шагов и интенсивного поведения; он тратит свою изначальную силу к необыкновенному в множестве более мелких шагов, спокойно продвигаясь вперед. Отсюда исконная «криминалистическая» сила примитивных народов и детей; увлекаемость более инфантильных людей позволяет им резкие преобразования и омоложения. То, что прорывается из еще более бессознательного с силой первого падения, после того как из бесконечных трещинок, мелких источников и подземных протечек соберется на близкое к сознанию место сбора, не может не вести себя столь безудержно, насколько позволяют ему новые преграды; насильственно избавившись от береговых плотин, оно лишь позднее по каплям все более плавно перетекает в какое-нибудь широкое зеркало моря.
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Мой Ницше, мой Фрейд... - Лу Саломе», после закрытия браузера.