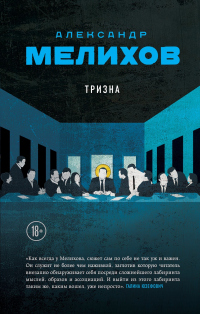Читать книгу "Мудрецы и поэты - Александр Мелихов"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Здесь оба одновременно поняли, что на этом пора остановиться, и разговор был сначала замят, а потом забыт, но позже его начал мучить вопрос – что было в словах брата? Только секундное раздражение интонацией, как у него, или обдуманный вывод? Однако он никогда не решился бы попросить разъяснений. Не только потому, что не желал признаться, как долго помнит такой пустяковый эпизод, но, главное, он боялся какой-нибудь ненужной ужасной откровенности и испытывал мучительную обиду на брата, так легко и просто лишившего его единственного несомненного убеждения: что бы ни случилось, брат всегда будет с ним. Он никогда бы такого не сказал Славке, ни всерьез, ни в раздражении. Он бы пожалел их прошлое, в котором не было ни одной дребезжащей ноты.
Боль в ступне вывела его из оцепенения: он слишком долго прижимал к горячему железу правую ногу. Он отошел от печи и сел за стол, но тут же снова встал. Ему неожиданно вспомнились сосны у дома, в облике которых что-то его сегодня поразило. Обычно они снизу черные, покрытые грубой корявой корой, и издали кажутся вымазанными грязью, а сверху – в нежной, как у луковицы, оранжевой кожице, зимой чуть тронутой инеем, по которой лишь там-сям разбросаны корявые нашлепки и кое-где торчит серый сухой обломок сучка, сломленного, быть может, еще при Александре-миротворце. На одном из таких обломков с незапамятных времен, когда сук рос еще не слишком высоко, висела скрученная восьмеркой велосипедная покрышка, похожая на свернувшуюся змею с рубчатой спиной. После вчерашней метели стволы были заключены в бугристую шершавую оболочку, слепленную, как гнездо ласточки, из комочков снега, и поэтому казались чем-то нераздельным со снегом у их подножий, повторявшим очертания скрытых им предметов гораздо мягче, обобщеннее, чем одеяло повторяет очертания спящего. И что-то в облике сосен мучительно напомнило ему о чем-то, но что и о чем – он понять никак не мог, сколько ни всматривался. Заметил только вертикальные снеговые перепонки между стволом и ветвями, как будто на сосну обрушилась снежная лавина.
Но вдруг ему открылось, на что они похожи: на снарядные всплески, стремительно и стройно возносящиеся из белизны и в вышине разлетающиеся белыми отягощенными ветвями, и он испытал что-то вроде мгновенного счастья. Будь он художником, он так и написал бы их – всплесками, взметнувшимися из снежного моря. Он вдруг ощутил, как художник всматривается в вещи – как в незнакомое лицо, пытаясь понять, что его в нем занимает, но, когда напишет, его поймут только те, кого влекло то же самое. Откровение – почти всегда откровение только для тех, кому отвечает на уже возникший вопрос и, может быть, даже наполовину решенный.
Ему захотелось еще раз взглянуть на сосны; он подошел к окну и, приложив к вискам края ладоней, чтобы в стекле не отражалась комната, начал пристально вглядываться. Было что-то видно только под окном: желтый параллелограмм на снегу и большая тень его головы в нем. Ветер порывами сбивал снег с крыши, словно кто-то засел там с лопатой. Окно от дыхания запотело, он нетерпеливо протер его ладонью и продолжал вглядываться. Слева, подальше, у автовокзала, раскачивалась лампочка, и он знал, что ее алюминиевый колпак коротко и жалко брякает. А направо, где стояли сосны, была сплошная темень. На черном небе едва различалась только зубчатая кайма леса, чернее самой темноты. Но, может быть, он не видел и ее, а только так казалось.
И сравнение со снарядными всплесками уже выглядело вычурным и литературным, а он все смотрел – не мог оторваться.
Снова вспомнился неприятный разговор с братом, и опять стало жутко: а вдруг Славка уже давно считает все незаурядное в нем просто дармоедскими наклонностями? Может быть, этот-то страх и не позволил ему написать брату откровенно и всерьез? И потому все самое важное для него – дети, уподобленные незащищенной ране, банное братство, нагота вежливости, плоть добра – все это выразилось как-то так, будто он только и добивался что подгонки под известный литературный стандарт?
Стоп-стоп… А ведь ему и перед собой как-то неловко всерьез думать о… да, о том, что его всерьез волнует.
Ведь вот и сейчас не о жизни своей он думает, а о каких-то проблемах каких-то художников! Зачем ему все это? Он что – вообразил себя художником? Краска хлынула в лицо. Он усилием воли не дал ей подняться выше подбородка и решился, несмотря ни на что, ответить на вопрос. Ну, так что – он считает себя художником? Мысль завертелась, заюлила, попыталась улизнуть. Он прижал ее и не выпустил, пока она не созналась: да, считает. И считал всегда. И смотрел на прочие занятия с высоты этого положения. Только ему казалось, что быть художником означает просто быть блестящим и неожиданным собеседником, все рассматривать с той точки зрения, своеобразно ли это, способно ли заинтересовать (конечно, тех, кто понимает в своеобразном).
А ведь все это, может, и хорошо, но все равно только надстройка. Профессиональная прочность – вот базис. И это закон. Нравится он тебе или нет – не важно. У законов есть качество, которое делает излишними любые «нравится» и «не нравится», – неотвратимость. Блестящий собеседник – это не профессия. Как говорится, суровый, но справедливый закон жизни. Он не раз издевался над этим выражением, потому что знавал гадов, которые им просто упиваются – упиваются своей спартанской объективностью. Им чем суровее, тем приятнее. Конечно, только когда дело их не касается. Суровость, справедливость которой понимают отнюдь не все, позволяет им взмыть – чем суровее, тем выше – над заурядными людскими страстишками и парить там, играя «в боги», как детишки играют в самолеты. Им даже неизвестно, что справедливое никто не ощущает суровым.
Но в данном-то случае он совершенно согласен: не следует платить зарплату только за то, что ты блестящий собеседник, пусть даже это и в самом деле так. Он бы и всегда с этим согласился, только этот вопрос никогда не вставал перед ним с такой прямотой. Так вот боишься дотронуться логикой до деликатных чувств – она кажется слишком грубой – и остаешься в плену у нелепейшего вздора. Художник – так будь профессиональным художником. То есть твори и получай гонорары.
Гонорары! Но уж коли они тебе, слава богу, не препятствуют, так пиши, по крайней мере, о том, что тебя действительно занимает. Не блистай, не пиши сквозь тонкую улыбку, словно тебе море по колено, – не играй «в боги», не гонись за стандартной красивостью.
Ясная логика представляется слишком грубой, зато любой набор красивых слов, кажется, всегда обладает каким-то добавочным смыслом, только очень тонким и глубоким.
В сущности, подспудное желание красивости (пусть неправильно, зато красиво – необычно) давно уже заменилось для него на «пусть некрасиво, зато верно», почти «верно – это и есть красиво». Только он не признавался в этом: во-первых, перед собой, незримо присутствующим рядом, требовалось выдерживать гонор, то есть выбирать из своих ощущений самые интересные. И якобы точные – а ими часто оказывались такие, каких он вовсе и не испытывал, – и, потом, мешало что-то вроде долга перед знаменем. А знамя всего лишь требовало держаться чистым художником – чистым, очищенным от материальных интересов, то есть все тем же блестящим собеседником, рассказчиком – таким человеком, для которого все происходящее имеет значение лишь в той мере, в какой оно способно украсить рассказ, а если в рассказе и проводится какая-то деэстетизация, то опять-таки в целях исключительно эстетических – для контраста и тому подобного. Неужели же не ясно, что твоя жизнь куда важнее, чем даже твой собственный – самый блестящий – рассказ о ней? Ясно, да только вопрос этот никогда так прямо не становился перед ним. Нелепо выделять из жизни украшения рассказа – стандартные украшения, ширпотреб! Самое главное украшение рассказа – это то, что в жизни занимает тебя больше всего и чего, конечно, не знает тот, к кому обращаешься. И если, конечно, это и для него важно.
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Мудрецы и поэты - Александр Мелихов», после закрытия браузера.