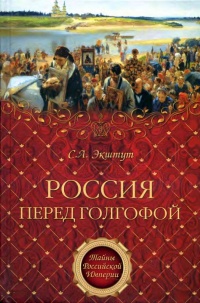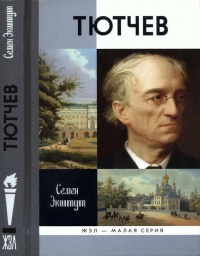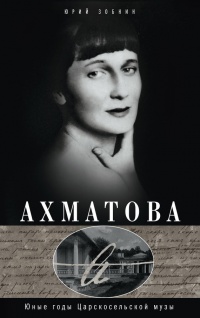Читать книгу "Юрий Трифонов - Семен Экштут"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Юрий Трифонов не только отметил этот феномен, но и едва ли не единственный из числа своих современников сумел описать непростой процесс принятия политического решения носителем верховной власти. Автор «Нетерпения» показал, что колебания императора Александра II и его непоследовательность при проведении реформ в стране — всё это объяснялось отнюдь не только слабостью характера царя, чьей-то злой волей или кознями придворной камарильи. Единства не было ни в среде либеральных бюрократов, ни в среде их антагонистов, ратующих за сохранение незыблемости самодержавной власти в России. Ситуация в стране была исключительно сложной, человеческий разум с трудом мог постичь всё противоречивое единство множества неравновесных и разнонаправленных векторов дальнейшего развития. Именно этим обстоятельством и объяснялось отмеченное Трифоновым обычное для царя «колебательное состояние» — ведь цена ошибки была исключительно высока. Один абзац из «Нетерпения» стоит нескольких монографий.
«Ах, беда была в том, что эти славные борцы за российский прогресс сами колебались не меньше главноколеблющегося! Один из истовейших реформаторов Милютин признавался в разговоре с другим реформатором, Абазой: нет, делегаты от земств не спасут дела, когда вся Россия на осадном положении. А главный либерал Валуев записывал в это же время, для себя самого, сокровенно: „Чувствуется, что почва зыблется, зданию угрожает падение“. В нужный момент, на одном из первых, сверхтайных заседаний Особого совещания, когда обсуждался проект великого князя Константина Николаевича, Валуев неожиданно заявил: „Я желал бы знать, какую можно извлечь пользу из того, что скажет по законодательному проекту представитель какого-либо Царевококшайска или Козьмодемьянска?“ Все были огорошены этим странным прыжком, этой внезапной переменой фронта, которую приписали личной неприязни Валуева к брату царя, не понимая того, что и тут проявилось бессознательное и необоримое, почти мистической силы, колебательное движение. Все колебались, все обнаруживали дрожание колен, и даже столп охранительной партии, надежда Победоносцева наследник Александр Александрович, увы, не являл собою образец прочности. Невозможность уступить, „пойти навстречу чаяньям русского общества“ заключалась для царя ещё и в том, что выходило, будто он оробел, поддался угрозам подпольных людишек. Для обыкновенной царской гордости это было совсем уж insupportement (невыносимо — франц.). Да и попросту, как для всякого мужчины, оскорбительно»[283].
В начале 1970-х годов эти рассуждения звучали исключительно злободневно и были способны вызвать весьма прозрачные аллюзии с современностью. Разумеется, речь не шла да и не могла идти ни о каких аналогиях между Александром II и Никитой Хрущёвым или Леонидом Брежневым: столь несоизмерим был уровень их происхождения, воспитания, образованности. Однако напрашивалось сравнение совсем в иной плоскости. Пятнадцать лет, отделявшие смерть Сталина от ввода советских войск в Чехословакию, изобиловали примерами колебания генеральной линии партии: правящая партия никак не могла выработать единую точку зрения на культ личности Сталина, то разоблачая этот культ, то пытаясь подвергнуть пересмотру эти разоблачения. Трифонов был первым и едва ли не единственным мыслителем, посмотревшим на современную ситуацию в большом времени истории. Возможно, что именно непоследовательность коммунистической партии в деле преодоления культа личности заставила Юрия Трифонова задуматься о непоследовательности царя-реформатора в деле проведения реформ в Российской империи. Однако этот посыл автора «Нетерпения» не был воспринят его современниками. Русская интеллигенция — как шестидесятники XIX века, так и шестидесятники XX века — плохо представляла себе всю сложность и многомерность проведения любых реформ и государственных преобразований. Картина мира русской интеллигенции была чёрно-белой, линейной и плоской. Ни о какой объёмности речь не шла. И поэтому простые, быстрые и радикальные решения всегда казались панацеей от всех бед, а колебания верхов служили пищей для анекдотов, но не были поводом для размышлений. Трифонов был первым, кто не только зафиксировал феномен «колебательного состояния» власти, но и обстоятельно изучил феномен страха в России — будь то страх властей в ожидании очередного покушения народовольцев на царя или страх обывателей перед правительственным или революционным террором.
Страх — это системообразующая категория русской жизни. «Жизнь непоправимо менялась. Страх становился такой же обыкновенностью Петербурга, как сырой климат. Нужно было привыкать»[284]. Осмыслив страх как универсальную философскую категорию и оттолкнувшись от этого понимания, Юрий Трифонов по сути сформулировал оригинальную концепцию отечественной истории. Вся русская история не только Петербургского, но и, тем более, советского периодов была постигнута им как история чувства страха в его различных ипостасях. Именно об этом самая известная повесть писателя «Дом на набережной» (1976).
«Дом на набережной» был написан и опубликован в то время, когда любое упоминание о репрессиях времен культа личности находилось под строжайшим запретом, однако Трифонов мастерски сумел художественными средствами передать гнетущую обстановку сталинской эпохи. Он сделал это столь филигранно, что с формальной точки зрения цензуре не к чему было придраться, и повесть была напечатана в журнале «Дружба народов». С одной стороны, в повести почти не говорится о непосредственных жертвах террора, хотя они и присутствуют на периферии повествования (арестовывают и отправляют в лагерь дядю Вадима Глебова, увольняют из института, где учится Глебов, преподавателей; выселяют из Дома на набережной семью автора повести), с другой стороны — читатели получают адекватное представление о времени всеобщего страха. В этой повести слово «страх» упоминается семнадцать раз, «ужас» — двадцать раз. Прилагательное «страшное» используется четырнадцать раз, и лишь один раз употребляется ключевое слово «террор». Страх — это главный герой книги, а сам Дом на набережной — лишь материализованное и локализованное в пространстве воплощение былого страха.
Михаил Андреевич Суслов, секретарь ЦК КПСС и главный идеолог партии, разрешил напечатать эту повесть на журнальных страницах, причём как само его решение, так и его мотивировка оказались совершенно непредсказуемыми. Суслов сказал, что «это правда, все мы так жили»[285]. Эти слова решили судьбу книги. «В цензуре поёжились и подписали»[286]. Цензоры не осмелились исправить ни одной строчки. Осталось загадкой, почему чопорный, абсолютно неэмоциональный, ни разу не замеченный в проявлении обычных человеческих чувств «серый кардинал» из Политбюро, всегда рьяно стоявший на страже устоев советской власти и чистоты идеологии, познакомившись с повестью «Дом на набережной», может быть, в первый и в последний раз в своей жизни проявил непосредственную реакцию. Можно предположить лишь одно: такова была власть высокого таланта! Знаменитый режиссёр легендарного Театра на Таганке Юрий Петрович Любимов вспоминал, что по Москве немедленно поползли слухи о словах «серого кардинала» из Политбюро: «Почему не печатают эту книгу? Эту книгу надо печатать. Мы все страдали, мы все подвергались нападкам Сталина, мы все прожили этот страшный период. Печатайте эту книгу» [287]. Однако очень скоро власть опомнилась, и всё вернулось на круги своя. Повесть оказалась под негласным запретом. «Дом на набережной» существовал лишь в качестве журнальной публикации. Повесть не разрешили выпустить отдельной книгой, её не включали в однотомники избранных произведений Трифонова, не вошла она и в последний прижизненный двухтомник писателя. Исключением стал однотомник «Повести», выпущенный в 1978 году издательством «Советская Россия» мизерным для того времени тиражом 30 тысяч экземпляров. (Книги «литературных генералов» выпускались миллионными тиражами.)
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Юрий Трифонов - Семен Экштут», после закрытия браузера.