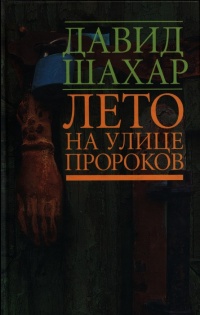Читать книгу "Иерусалим - Денис Соболев"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Но помимо искренности, — сказал я, продолжая свои мысли, — есть еще и святость. Или как уж там это назвать. Ну, ты понимаешь.
— Я думаю, что это почти одно и то же.
— Нет, — возразил я.
— Да; — спокойно сказала Орвиетта, — святость — это искусство непринадлежности, искусство непричастности. А искренним может быть только человек, который не служит своим целям и интересам, поскольку тем проще заставить окружающих нам служить, чем меньше они про нас знают. Или такие, как я. у которых нет ни прошлого, ни целей.
Я задумался.
— Но тогда, — сказал я, — все, что служит непричастности, служит и святости.
— И наоборот, — ответила она, — все, что привязывает нас к этому миру, греховно.
— Но из этого следует, что семья, дом, иллюзии, надежды, да и любовь…
— Да-да, — согласилась Орвиетта, — с точки зрения святости проститутки несомненно лучше, чем жена. Я не думаю, что потаскушки способны к себе кого-нибудь привязать.
— А любовь?
— Любовь? Это, пожалуй, и есть самое интересное, — сказала она. — Мы ищем любовь, а находим секс, который нам продают, стремясь сделать нас своей собственностью, под видом любви. А на самом деле никакой связи между ними нет. В этом смысле я думаю, что порнография тоже служит святости, обесценивая секс и разбивая иллюзию любви, которой нет.
— А как же мы с тобой?
— Мы с тобой исключение. Впрочем, когда люди говорят, что они исключение из мироздания, это просто значит, что они тоже обманывают себя, как и все остальные.
Мы еще долго сидели, слушая музыку; потом, держась за руки, медленно пошли вдоль черных ночных улиц. С того вечера, как никогда раньше, она стала часто бывать у меня. Иногда сидела с книгой в углу дивана, иногда лежала на балконе и смотрела на звезды.
В эти минуты она была очень красивой — печальная, нежная, трогательная и отсутствующая, и звезды над ее головой были чистыми и сияющими. Желтый свет лампы падал из распахнутого окна комнаты, отражался от пола и освещал ее кожу, белевшую в темноте. Все, что я знал про нее, стало распадаться на иллюзорные кусочки несуществующей мозаики; ужасное наваждение предыдущих дней предстало передо мной в своей нелепой и очевидной невозможности, в своей истине. Я смотрел на нее, сквозь грусть ее глаз, сквозь их свет, и мне стало ясно (это пришла та твердая и прозрачная ясность, которая не оставляет места для каких-либо сомнений), что она не может иметь ничего общего ни с жестокими и бессмысленными мистификациями, ни с душевной болезнью, ни со слепой страстью к разрушению. Ее взгляд был наполнен непринадлежностью и чистотой. Мне пришло в голову, что все, что я приписывал ей, мне просто приснилось, как может присниться ночное бегство по пустыне, оказавшись дальним эхом моих излишне долгих и бесплодных размышлений о рабби Элише. А то, что впервые в моей жизни этот сон наложился на реальность, породив нечто наподобие галлюцинации, объяснялось или общей усталостью, или попытками написать книгу, к чему я, по всей вероятности, не был пригоден, или моим беспомощным барахтаньем в вязкой трясине существования, или же обострившимся за последние недели чувством отсутствия, безнадежной пустоты мироздания, невозможности найти в нем то немногое, что позволило бы нам жить. Молча она смотрела на звездное небо, потом повернулась ко мне и грустно и застенчиво улыбнулась; звезды горели над нами своим прозрачным светом — светом нежности, светом смерти.
10
Так день за днем, шаг за шагом я топтался на месте, двигаясь по кругу от одной книги к другой, от текста к тексту, от комментария к комментарию, пока наконец не сказал себе: я должен быть искренним перед собой; это не стало историей. Собранные мною материалы так и не превратились в биографию рабби Элиши, сквозь которую, как я мечтал, тонким абрисом могло бы высветиться особое и неповторимое лицо этого человека. И уже никогда не обратятся, добавил я, никогда. Мозаика не собралась, пазл не сложился, фрагменты остались кусками неразрешенной головоломки. Жаль, что сохранилось так мало фрагментов, и они подверглись такой основательной идеологической обработке. Эта мысль была грустной, но утешительной; жаль, жаль. Но может быть, вдруг подумал я, все немного иначе, и дело совсем не в том, что отрывочные сведения, сохранившиеся о рабби Элише, недостаточны для создания той цельной и последовательной биографии, которую я видел в своем воображении. Возможно, что причина в другом, и это разрозненные куски нашей жизни — любой из наших жизней — не складываются в единое целое. Жизнь и мир остаются фрагментарными, пока не коснутся обманчивой бумаги нашей души. И в этом смысле жизнь Другого просто высветила то, что может быть сказано и о любом другом: фрагментарность исчезает только в царстве воображаемого. И именно поэтому пишущий о рабби Элише, как и о любом, как и о себе, вынужден выбирать между истиной и последовательностью. Я не хотел выбирать иллюзорную цельность, легкую убедительность несуществующего, но уже не мог выбрать истину.
И все же, несмотря ни на что, были четыре вещи, которые я понял про рабби Элишу. Вероятно, первым, бросившимся мне в глаза, было обостренное чувство судьбы, ее молчаливое принятие, твердое и трагическое следование сделанному выбору. Это был не путь фанатика, но и не путь испуганного раба. И уже вслед за этим я неожиданно увидел, что во всех поступках рабби Элиши сквозило еще одно странное и пугающее чувство — любовь к смерти; почти все, что мы знаем о нем, можно было понять не только как диалог с равнодушным Богом, но и как бескорыстную любовь к ангелу смерти. В то же время я хорошо понимал, что он никогда не искал гибели; даже его шаг на пути восхождения всегда оставался внимательным и осторожным: в нем не было ни фанатизма Акивы, ни безрассудности бен Аззая, ни навязчивых страхов бен Зомы. Он искал нечто совсем иное; и это иное было тем третьим, что я понял о нем. Всю свою жизнь он искал пространство свободы, пространство бытия, свободное от господства. Дошедшие до нас фрагменты размышлений рабби Элиши вполне однозначно свидетельствуют о том, что он постоянно думал о свободе, но не о свободе как высшей ценности, а скорее как о проблеме; его мысли постоянно возвращались к свободе и знанию, свободе и поступку. Впрочем, свобода рабби Элиши обнаруживала себя в пустоте, разбиваясь о холодную безысходность существования. Его бунт против Закона и несправедливости мироздания был в еще большей степени бунтом против пустоты бытия, против отсутствующей и несвершившейся жизни. И еще, подумал я, мне кажется, что в том, что я читал о рабби Элише, можно было ощутить стремление примирить мысль и душу, веру и чувственность, еврейское следование моральному долгу и греческое ощущение полноты мира. Да, конечно, продолжил я, конечно же, он пытался достичь примирения между еврейской верностью вечному, сосредоточенным внутренним взглядом и греческим чувством цельности мироздания, несокрытой гармонии природы. Но я не был уверен в том, что это правда; к тому же подобное примирение было скорее всего невозможным, и рабби Элиша не мог об этом не знать.
Далеко не со всеми идеями рабби Элиши я был готов полностью согласиться, и еще в большей степени у меня вызывали сомнение те способы, с помощью которых он пытался их осуществить. «И все же, — сказал я себе с насмешкой, — я знаю, чтобы мог сделать вместо того, чтобы снова раз за разом пытаться написать этот роман. Мне следует основать „Бейт Мидраш ди Рабби Элиша“; точнее даже не мне одному, а нам с Орвиеттой». Эта идея мне настолько понравилась, что я вышел из дому, сел в машину и поехал к ней, собираясь об этом рассказать. Было жарко, солнечные лучи падали отвесно, обжигая кожу, разбиваясь о сухую южную землю. «Это земля, где все проходит, — подумал я. — Такие, как я, потерявшие все, чем можно было дорожить в этом мире, — получили взамен только одно: смертельную, беспощадную свободу и способность никогда больше, никогда не испытывать ни душевной боли, ни страха». Подойдя к двери, я вспомнил, что приехал без звонка и, уже стоя на лестнице, позвонил Орвиетте по мобильнику.
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Иерусалим - Денис Соболев», после закрытия браузера.