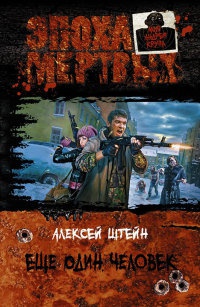Читать книгу "Другой Урал - Беркем аль Атоми"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Мамки, не очень довольные нашим постоянным болтанием по этому чудесному месту, пугали мелочь глистами, вшами, цыганами, которые «украдут и увезут в Со-рочинск, будешь там до гроба побираться», и еще Лома-ковым — местным маньяком в черном пальте до земли, который «поймал мальца, опидарасил и задушил белой рубашкой, в которой ён в школу шел, и в ботву закопал — по ранцу нашли», но мы не верили, потому что в школу ходили по дороге среди ровного поля, и на ней спрятаться было негде, а дело-то было давно, и в белой рубашке кто ж в школу-то ходит? Мы много кого боялись на Шанхае — таджика Фируза, у которого был взгляд, от которого сразу мерещились черти, гробы и могилы, был еще дядя Саша, которого боялись вообще все — он постоянно вертел в руках маленький, но почему-то очень жуткий ножик с желтой костяной ручкой и всегда молчал, боялись точильщика Елового и товарника; товарник мог без базара вытянуть кнутом до кости, и к нему иногда приходили «потереть» отцы его жертв, и дрались с ним до больнички, но он все равно продолжал, и вообще, на Шанхае хватало страшных людей — но мы с Катькой Постяковой, моим боевым другом, по-настоящему боялись лишь Бобриху.
Она жила на самом краю Шанхая, у дороги, отделявшей наш крайний дом от бесконечного кукурузного поля. Ни обитатели, ни посетители Шанхая этой дорогой не пользовались — едва коснувшись окраины, она снова терялась в полях, и по ней ездили только комбайны и большие грузовые машины. Иногда мы с Катькой, озадачившись вопросом — что бы поделать еще, переглядывались и, одновременно вспыхнув идеей, срывались с места и стучали пятками по растрескавшейся глине дороги к Шанхаю бояться Боброву.
Смысл был в том, чтоб подкрасться к ней как можно ближе, а потом, когда чуткая старуха нас все же попалит, с визгом и ором дриснуть той же дорогой обратно, под защиту серых стен микрорайона. У нее был особый сарайчик, вроде бы и точно такой же, как и все остальные, и в то же время радикально иной. Он казался чем-то другим, замаскированным под лачугу полоумной бабки, его облик всегда тек и мерцал, его невозможно было подробно запомнить, и даже детали, врезавшиеся в память, при следующем свидании словно ухмылялись тебе со своих мест: «Ну че, похоже у нас сегодня получилось, а, человеческий детеныш? Прям как вчера все, не отличить, да?» И мне всегда хотелось побыстрее отвести глаза, оставив наши отношения в текущей фазе; я откуда-то твердо знал, что лучше кивать и соглашаться, и прямо-таки видел, что, если не принять их игры, диалог примет совсем иной оборот.
Лачуга стояла полубоком к дороге, и пройти в ее дворик можно было лишь по длинному узкому проходу между ее стеной из всякого мусора и курятником, в котором всегда сидели одни и те же мрачно оборачивающиеся на нас курицы. Курицы были тоже какие-то не такие — я ни разу не видел, чтоб они гуляли по старухиному дворику, они не подавали голоса и вообще не сходили с мест. Сколько мы с Катькой их ни видели, они всегда сидели на обо-сранных досках за ржавой сеткой и только вертели башками, направляя на нас свои блестящие бессмысленные пуговицы. Помню, я первый научился заходить к ней во дворик.
Дело было на Пасху. Я шел откуда-то с дальнего конца Шанхая, нажравшийся под завязку пасхальными подгонами щедрых пьяных шанхайцев, мне то и дело тяжко икалось и отрыгивалось яичным желтком, но я мужественно залавливал обратно зловонную желточную кашицу и так устал от этого занятия, что иногда прикрывал глаза и пробирался между кучами мусора по памяти. Проходя мимо отнорка в старухину выгородку, я вдруг четко ощутил, что дорога открыта и я прямо сейчас могу зайти. Без единой мысли в голове я повернул и обошел мусорный вал между тропинкой и входом к Бобровой. Встав перед щелью меж лачугой и курятником, я почувствовал, что делаю что-то не то, и всякие вопросы начали прорастать из моей головы во все стороны, совсем как ветки у дерева. Это мешало пройти, и я как-то расхотел эти мысли, и они пропали. Теперь мне ничего не мешало, и я вошел, чувствуя, что тут и так-то едва проходишь; хорошо, что у меня из головы больше ниче не торчит. Повернув налево, проход стал шире, но еще не кончился. Мельком подумав, что если дергать обратно, то сейчас, я пошел дальше, задумчиво щупая прохладный лист ржавой жести, из которого была сделана часть стены курятника. Проход снова изогнулся и как-то неожиданно открыл передо мной задний дворик, заваленный всяческим хламом. Я уже видел его, когда мы с Катькой и Руськой лазили на ее забор со стороны Бобрихиного соседа, но отсюда впечатление было иным, совсем иным, и я завороженно уставился расфокусированными глазами на открывшуюся панораму.
Ощущение от Бобрихиного двора было сногсшибательным — в самом прямом смысле; вид ударил меня в грудь, заставив воздух вылететь из горла судорожным полукашлем-полувыдохом. Я показался себе мужиком из «Калины красной», когда он открывает дверь, а там сидит целая шобла в полной готовности начать пьянку. Со мной заговорили все предметы, на разные голоса, с разной скоростью и громкостью. Шипел забор, и отдельно кряхтели, звенели, шуршали все его составляющие, ныла подставка под тазом, сам таз гулькал, как голубь, цыкал напильник, заточенный на манер кинжала, ритмично скрипела лачуга — вот она не мелочилась и скрипела вся, в унисон, причем звуки, при всей их разнобойности и несовместимости, образовывали очень сложную и красивую мелодию, вернее, то, что надстоит над мелодией, как сама мелодия складывается из отдельных звуков. Эта какофония оглушила меня, и на глазах появились слезы, как от сильного морозного ветра, бьющего в лицо. Я хотел было уйти, но заметил, что звук предметов означает еще и: полные они или пустые. Заинтересовавшись, я остался и стал присматриваться к предметам, сильно зажмурившись для большего удобства. Сразу же обнаружил Бобриху — она сидела внутри лачуги на топчане, вытянув руки вперед и притопывая ногой. Она показалась мне неинтересной, и я обратил внимание на стопку проволочных молочных ящиков, стоящую под слоем досок и накрытую кусками рубероида. Это был самый непустой предмет во дворе, гораздо более полный, чем подставка под тазом и косо висящая на заборе безрукая грязная кукла. От моего неделикатного внимания в стопке что-то глыкнуло, и отовсюду пошел такой слабенький, отдающийся в зубах гул, который чувствуешь брюхом, когда сидишь на рельсах, а поблизости тепловоз запускает дизель. Он был такой большой, всеобщий, но совсем не страшный, и я просто отпустил эту стопку, и гул вмиг пропал. Сразу после этого нахождение здесь показалось мне чем-то совершенно ненужным и раздражающим, и я торопливо выбежал обратно на тропинку, пока не перестал ветер. Мне откуда-то было известно, что, если ветер перестанет или изменится, я ни за что не выйду от Бобрихи, но такая перспектива почему-то меня совсем не пугала, только жалко было маму, которая станет по мне скучать, и в парк ей ходить будет не с кем — а взрослым тетенькам не положено одним кататься на большой цепной карусели, а маме это очень нравилось, и она смеялась больше меня и даже кидалась чем-то в едущего впереди папу.
С тех пор бояться Бобриху мы больше не ходили и даже ни разу не обсуждали подобные планы — ее как будто вычеркнули из нашей памяти, и посетили мы ее еще только один — последний — раз, сразу после того, как вернулись с линейки по поводу приема нас в октябрята — Бобриха вздернулась. Это был второй случай, когда Шанхай не счел возможным тихо-мирно рассосать возникшую у него ситуацию. Бобриха была равно чужой как Городу, так и Шанхаю, и кто-то позвал ментов. Мы пришли, когда менты уже уехали, оставив одного мужика, что-то осматривающего и записывающего в папку, а труповозки еще не было. Бобриха висела на тоненькой-тоненькой веревочке, прямо перед дверью. Ее лицо распухло и стало черно-фиолетовым, и в открытом беззубом рту торчал кверху синий язык. Было очень удивительно видеть ее ноги, подогнутые над растекшейся кучкой дерьма, ведь она свободно могла встать на них и тогда бы осталась жива.
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Другой Урал - Беркем аль Атоми», после закрытия браузера.