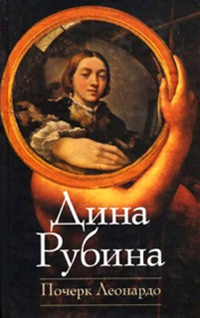Читать книгу "Поклонение луне. Книга рассказов - Елена Крюкова"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Мозолистые руки валяли рыбу с боку на бок, орудовали кухонным ножом-тесаком, заскорузлые, красные замерзшие пальцы выковыривали жабры и кишки, бережно, как хрустальную, отделяли икру от пленок пузыря, кидали в пустую банку, присаливали густо. Стерлядь надо варить прямо с головою; вот и вода булькает в чугуне, нежно туда кладется рыба, и золотые янтарные пятна жира начинают плавать по поверхности бурлящей воды, выделывая круги и петли. На закраине стола лежал кошель, туго набитый мелкой, медною монетой. Ремешок, стягивающий его, слегка ослабился, и в кожаной прорези видны были россыпи маленьких монеток, похожие цветом на сазанью икру. Противень – в печь! Посолить не забыли?..
Андрей, щурясь, медленно снимал пенки с дымящегося молока, стряхивал в глубокую деревянную миску. Кошка выскользнула из-под стола, крутанулась близ ноги, выгнулась, потерлась лбом о босую ногу Андрея. Муркнула. Киса, киса! Рыбы хочет!.. Филипп, дай ей рыбы.
Филипп, раскосый, с изжелта-серым, выпитым усталостью лицом, затянутым серебряною щетиной, хлопотал у печи, ножом переворачивал на противне сазана. По избе разносился сладкий, травно-речной запах печеной рыбы. Языки огня колыхались и свистели в печи.
Сгорбясь, Филипп шевелит кочергой поленца, угольки выскакивают на дощатый пол, и Филипп веником сметает их в железный совок, отправляя обратно в печь. Щетинистое лицо его все в саже. Рука Андрея – на медном боку самовара. Андрей гладит самовар, улыбается ему, разговаривает с ним, как с живым. У каждой вещи есть душа. А самовару требуется полуда. Он того и гляди потечет, нищий, дырявый. Легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому войти в Царствие Небесное. А нищему? Нищий, дырявый, свободно входит, да? Смеясь?..
Кошке отрезали и бросили стерляжий хвост, и, урча, зажав его в зубах, она метнулась с ним под лавку, укрытую старым вывернутым тулупом. Тулуп свисает до полу: кошка под ним, как в шалаше. Рыба, рыба, древняя еда кошачьих царей.
Красно-желтый свет свечи целовал темноту, безошибочно выбирая из нее самое красивое и томительное: присобранную на булавку над окном холщовую занавесь, свежезасоленную икру в прозрачной банке, нежное юношеское лицо Ивана. Иван, пошто на лавке сидишь, ногами болтаешь?.. Пошто ничего не робишь?.. Другие-то вон, крутятся. А ты, созерцатель, спишь наяву. Красивое тонкое лицо Ивана дрогнуло, пошло волнами, мышцы задергались под кожей, нос втянул морозный воздух, веющий из приоткрытой двери. Что нюхаешь, а?.. Вкусно?.. Сейчас чесночку, лучку накрошим. Да ведь уху одною морковкой неумелой можно испортить.
Кто-то идет?! Кто?! Кто там?!
Петр выпрямился во весь рост у двери. Она распахнулась, и распахнулось за ней пространство. Серебряные, золотые линии, кольца, разводы, стрелы снега зачертили, похерили ночную кудлатую чернь. Белое поле укрыто толстым пуховым слоем чистого снега – намело знатно. Там, за перелеском, – темно-серая, леденистая излучина застылой реки, ракитовые кусты, превращенные в жестко-звонкие сосульки. Где белая земля сходится с черным небом – там светящаяся полоса, горящее морозное марево. Филипп говорил, что в наших краях зимою можно иной раз Сияние видеть. Еще шире отворилась дверь. И по снегу кто-то – скрип, скрип. Явственней. Слышнее. Петр напрягся, вытянул жилистую рыбацкую шею, поднял в ожидании плечи, подался вперед: если враг – схватит, заломает, тот и не пикнет. Еще, еще отошла дверь, раскрылась настежь, стукнулась о сруб снаружи. И в широком дверном проеме, полном звезд и печальной белизны, встал человек, низко склонился в поклоне, распрямился и от снега ноги отряхнул.
Филипп в это время ставил в печь хлебы – сазан уже испекся, и, дуя на обожженные руки, подхватывая тяжелый противень рушником, Филипп уже вытянул запеченную рыбину, возложил ее на чистые, дожелта выскобленные ножом доски стола, а сам ринулся снова к печи горящей – хлебы засадить, пока не остыла. Андрей бросил обнимать самовар и уставился на вошедшего; узкие черные глаза Андреевы резко, ножево блестели из черной бороды, кругом охватывавшей его лицо, курчавые черные волосья отливали медным в тусклом свете. Петр словно бы весь обмяк. Его большое тело выдохнуло из себя весь воздух. Седобородый, огромный, он по-ребячьи беспомощно протянул руку к вошедшему – ладонями вперед, – рыбацкие, заветренные, в заусенцах, руки-корневища. Протянул и заплакал.
Иван, Иван, где ты?!.. А вот я, на лавке. Встать не могу – ноги будто отнялись. Пятки колет иголками. Сердце прыгает в горле. Я же всегда говорил, что Он придет. Всегда. Всегда. А вы не слушали меня никто. Вы смеялись надо мной грустно. Вы только плакали о Нем. А я ждал Его.
Щеки Ивана зарозовели от жара печи, вишневые мальчишеские губы разомкнулись, чтобы сронить слово. Но, немой от счастья, ничего он так и не смог сказать, лишь упал на колени, соскользнул вниз, на пол, с лавки, с лохматой разметанной дохи.
– Милые! Мир вам, – негромко и нежно сказал человек и вошел в жарко натопленную избу.
Доски трещали под тяжестью шагов. В морщинистых руках колыхалась, едва не расплескиваясь, миска с горячей ухой. Сазан лежал посреди стола смуглым огромным лаптем, лаптем для великанской ноги, курясь ароматами, и белый запеченный глаз его, глаз побежденного речного владыки, глядел с укоризной. Кошка прыгнула; чьи-то колени под хламидою раздвинулись, и кошка свернулась на коленях клубком, громко, на всю избу, зафырчала. В глиняный кувшин льют дрожащие руки вино – нашлась за печкою прошлогодняя бутыль, это яблочное, сладкое. Огарок свечной щелкает, чадит, трещит; пальцы торопливо гасят его, миг мрака, шепоты, слезы текут по скулам, затекают в раскрытые в улыбке радости рты. Снова зажжен огонь, и свеча на этот раз толстая, смешная, пузатая как бочонок. Ополовником зачерпнута и вынута из чугуна стерлядь, ее кладут на деревянную длинную тарелку перед пылающим – с мороза – лицом. Погреть застывшие руки дыханием. Помять их, потискать – живые. Живые. Неужели живые?!
Оттуда еще никто не возвращался. Кроме тех, кого Он вернул. Кроме Него самого.
Мед, сотовый мед подвиньте к Нему поближе! Улыбка гаснет, возгорается снова. Мед состоит из тысячи искорок: это соты, в каждой ячейке – пчелиный дом, в каждом доме – сладость и любовь. Трясут над столом мешок, вытрясают из него сухие еловые шишки для растопки самовара. Милый, есть и смородиновый лист, мы по осени в садах надрали, чай с ним знаешь какой царский, есть еще и картоха вареная, Филипп успел отварить, он у нас сегодня в трапезной за главного, и еще помидорки соленые, только три осталось: Тебе, Петру и Ивану, Ты же любил Ивана, так угости его Сам, из Своих рук.
Губы окунаются в вино. Глаза Твои блестят, Ты глядишь на человечью вечную еду, на дрожащую свечу, на плачущие навстречу Тебе родные лица. И вы живые. И вы тоже все живые. Спасибо. Я тоже все попробую. Вот мед. Я помню его запах в жаркой Самарии, когда Я сидел близ колодца, отдыхая, а женщина, что любила Меня, принесла Мне за пазухой кусок сотового меда, и он пах ее жарким телом, грудью, благовониями – лавандой и розовым маслом, и масличным листом; она несла его по жаре в ложбинке между грудей, и сотовый воск принял очертания этой ложбинки. И Я ел этот мед, а потом она поднесла Мне зачерпнутой ведром из колодца ледяной воды, и, пока Я пил, она сказала Мне о том, что любит Меня. Вот печеная рыба, – Я отломлю кусочек. Петр, помнишь, как Я наслал на ваши три лодки бездну рыбы? Ты с подручными даже выловить не мог! Только кричал: “Идет, идет недуром, она же мне сети порвет! Это рыбий водопад, это рыбья война! Мне не сдержать! Тащи, тащи!..” И все, кто мог, помогали тебе, и серебряная толстоспинная рыба рвалась вон из сетей, весело выпрыгивала, брызгая и шебутясь, вымахивая из воды свечками, плясала рыба свои безумные пляски, сети тяжелели, жилы людей на их шеях вздувались от напряжения, когда они тащили забитые рыбою сети из воды, а Я стоял на берегу, улыбался Своему чуду, и радостно Мне было, и счастливо, и по берегу ко Мне бежал народ и кричал: “Рыба, рыба! Чудесный лов!..” И мы, наделив всех рыбой, накормив всех – от старика до дитяти, сели, когда свечерело, на берегу, закат отгорал, ракиты трогали кончиками листьев холодную воду, ты был в одной рубахе, Петр, и босиком, ноги твои замерзли и посинели от долгого стояния в воде, – ты, ежась на ветру в рубахе, разложил костер, и в костре, на песчаном берегу, мы с тобой запекли в угольях пять больших рыбин, очертаниями напоминающих созвездие Рыб Небесных, и ты выкапывал их из горячей золы голыми руками, обжигая холодные пальцы, и подносил нам всем на листьях, на огромных, сорванных неподалеку в овраге лопухах, и мы, усталые, ели эту печеную рыбу под первыми звездами, под синим небесным пологом.
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Поклонение луне. Книга рассказов - Елена Крюкова», после закрытия браузера.