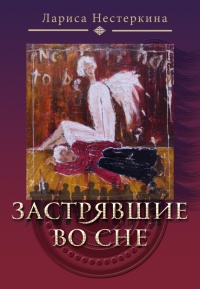Читать книгу "Старомодная манера ухаживать - Михайло Пантич"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Я понял, как все это бывает — с любовью и с болью. Сначала мы вдохновлены встречей, словно узревшие Бога (может, и так, может, это и был Бог, когда я впервые увидел Тамару, не припомню, давно это было), во второй раз хотим повторить первый опыт, но такого никогда не бывает, не может быть, мы уже излечились от слепой веры. А в третий раз, в третий раз мы уже сидим и пытаемся объяснить друг другу, что с нами на самом деле случилось. Мы с Тамарой сидели в доме Томаса и занимались именно этим. У нас не очень-то получалось. Все, о чем я столько времени размышлял, казалось мне теперь лишним и пустым. Да, это точно: думать о ком-то и быть с ним — две разные вещи. Тамара приготовила ужин, мы немного поговорили о том о сем, она сказала мне, что пока ничего не планирует, просто хочет выспаться и отдохнуть, и мы отправились на покой, каждый в свою комнату. Разумеется, заниматься любовью с тем, кто пару дней тому назад похоронил мужа и мать, м-да, это как-то… Не знаю, что и сказать.
Я долго ворочался и заснул, кажется, только перед самым рассветом. В доме Томаса и Тамары царила идеальная тишина, снаружи не проникал ни малейший звук, даже деревья в саду не шумели листвой, ночь накрыла и обездвижила пригород. Много о чем я думал, и постепенно мне стало не хватать моего кота, и тут — вздыхая всего в нескольких шагах от той, которую постоянно вожделел, пока ее запах витал во мраке, желая хоть кому-то (вот, например, вам) рассказать все о Тамаре, как я ее называю — я понял, что искренне можно говорить только о том, что у вас болит. Эта боль неопределима и непреходяща, боль — мое единственное постоянное, неутихающее средоточие. Я не перестаю думать о ней, потому что вновь и вновь переживаю ее. Разумеется, это не только физическая боль, та, которую можно подавить седативами или морфием, нет, это боль, к которой я готов каждое утро, боль, которую мне причиняет весь мир, включая Тамару. И эта боль заставляет меня бодрствовать, боль обостряет мои чувства, заставляет присутствовать в этом мире. Так она протекает и никогда не перестает. И даже теперь, когда я оказался в непосредственной близости от этой женщины, боль, возникшая после ее первого ухода, не исчезла окончательно. Может, со временем она несколько смягчилась, немного притупилась, и теперь уже не такая резкая, как прежде, расслабилась, потеряла прежние очертания и сменилась каким-то неопределенным, длительным состоянием сгустившейся пустоты, но она все еще здесь, где-то во мне, достаточно только подумать о ней, и она появляется вновь. Увидев Тамару в холле гостиницы, заметив, как на нее устремляются взгляды оказавшихся там людей, я захотел поговорить обо всем, свободно, в деталях, выговорить все, что ношу в себе, высказать даже то, что никогда бы не пришло мне на ум в ее присутствии, а оказалось, что все это, вместе взятое, выяснилось не бог весь чем, а только разговорами о том, как те, кого я больше всех любил, больше всех причинили мне боль.
Как это взаимосвязано? Не потому ведь я их люблю, что они причиняют мне боли больше всех. Нет, конечно же, нет. Но только я знаю, что все меняется, и только это чувство неизменно, постоянно, словно весь мир зиждется только на нем. Да, мне понадобилось лет двести, чтобы это понять, я вырос с этой болью, без нее, похоже, я не смог бы стать тем, кем стал сейчас, одиноким обожателем кошек и вечно нереализованным в своей любви к Тамаре человеком, который может сказать, что любит мир, несмотря на боль.
Вот этого я добился.
Любить весь мир, пусть даже он и не знает о моем существовании.
Любить его, вопреки тому, что в нас болит, не только в том смысле, что он постоянно и неустанно приносит нам боль, но и потому, что в нем мы обретаем себя. Любить его так, как я люблю своего кота, просто так, не преследуя интереса, настоящей любви повод не нужен. Впрочем, кто сможет объяснить, какой повод годится для любви?
Кто?
Утром я сказал Тамаре, что хочу как можно скорее вернуться домой. Она поняла. Но попросила остаться хотя бы дня на два, чтобы она осмотрелась и пришла в себя, собралась с силами. Я согласно кивнул. В первый день мы обедали в каком-то отличном ресторане, пили отличное вино, и там она повторила, что любит меня, во что я, конечно же, не поверил и никогда не поверю, а потом мы отправились в ближайший зоопарк, где она, остановившись перед клеткой с райскими птицами, уже второй раз за день сказала, что часто, почти каждое утро, прежде чем выйти из дома, или вечером, перед тем как уснуть, думает обо мне, на что я, когда мы направились к загону с меланхоличными ламами, надменными верблюдами и прочими равнодушными парнокопытными, вновь сообщил ей, что не верю этому, но это ничуть не мешает мне связывать с ней свою любовь к кому угодно. Вечером она приготовила ужин, мы опять пили какое-то отличное вино, и любовью мы, разумеется, не занимались, все-таки мы люди в том возрасте, когда этим не занимаются каждый день. Хотя мне хотелось, и я сказал ей об этом. Она улыбнулась и ответила, что у нее не хватило духу сказать то же самое. Мы решили отложить это дело до более подходящего случая, если таковой подвернется, ну а если ничего не случится, то я, по крайней мере, буду думать, что она тоже хочет, и все время буду желать ее. Второй день прошел в приготовлениях к полету: мы пообедали, я упаковал вещи, и мы отправились в супермаркет, где я купил коту пачку деликатесов с запахом омаров, я тоже попробую чуть-чуть, если он не заметит. Тамара проводила меня в аэропорт и на прощание действительно поцеловала меня, у этого поцелуя был знакомый вкус, тот самый, что и миллион лет тому назад. Я махнул ей рукой, она ответила, и я направился к своему терминалу. В самолете рядом со мной никого не было, и я воспользовался этим, чтобы напиться в доску, последовательно и основательно, полностью осознавая материальную и моральную ответственность.
По возвращении домой мне захотелось обо всем этом рассказать кому-то, скажем, вам. Кот, когда я забирал его от Горана, проигнорировал меня, потом немного пошипел, но когда я принес его домой и положил в его (и мою) миску немецкую кошачью пищу с запахом омаров, он принялся мурлыкать и ласкаться ко мне. Вскоре все вернулось на круги своя, я включил телевизор, там опять о чем-то спорили вокруг политики и подлости, которая превратилась в доблесть. Я крутил каналы, ничего интересного не было. Потом включил музыку, это уже было получше. Густав Малер. Скрипки в широком диапазоне, то взмывая к недосягаемым высотам, то утопая в бездне, подчеркнутые тимпанами и гулом басов, рассекали воздух, словно птицы над северным океаном. Потом к ним присоединился рояль, звучащий как трансатлантический лайнер в ночи, глухо и далеко, почти печально. Я взял любимую книгу и начал читать наугад, с того места, где она раскрылась, редко попадаются такие книги, в которых ты на любой странице найдешь то, что хочется. Зазвонил телефон, я знал, кто это.
— Привет, — сказала она, — я думаю о тебе. Вряд ли ты понимаешь, как здорово, что ты приехал и что мы повидались. Надеюсь, добрался хорошо.
— Точно так. Чем занимаешься?
— Разбираю мамины бумаги и фотографии. Целая жизнь! Не знаю, что с ними делать. Трудно обо всем вспоминать. Наверное, соберу все в большую коробку и куда-нибудь запрячу. Но как только это сделаю, никогда больше к ним не прикоснусь. Мама была странной женщиной, я никогда ее не понимала. Все время говорила, что любит меня больше всех на свете, но так легко оставила. И мне больно от этого, всю мою жизнь. А что ты делаешь?
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Старомодная манера ухаживать - Михайло Пантич», после закрытия браузера.