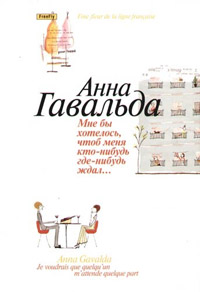Читать книгу "Мультики - Михаил Елизаров"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Эй, Герман, что с тобой?! — далеко и глухо прозвучал Лившиц.
Перед тем как мир опрокинулся и стал пустым пересвеченным кадром с перфорацией, я успел прочесть надпись в самом низу обложки: "Художник Борис Геркель, 1976 год"…
Лившиц тогда изрядно струхнул. Он, конечно, был в курсе того, что я не вполне здоров, но увиденный вживую припадок с судорогами и пеной произвел на него отталкивающее впечатление. На какое-то время впечатлительный Лившиц отдалился от меня, но наша дружба все-таки была хоть и с небольшим, но школьным запасом, поэтому взяла свое и неприятный инцидент вскоре ушел в тень…
Лившиц ни разу не завел разговора о детской книжке "Герка, Бобик и капитан Галоша". Возможно, он просто не понял, что именно она спровоцировала приступ. Я же никогда ему о ней не напомнил. Зачем? У меня даже искушения не возникло ознакомиться с содержимым книжки, хотя я бы мог это предпринять в какой-нибудь четный год, когда болезнь отступала. И тем не менее. Я не взялся бы читать про Герку и капитана Галошу, как не стал бы перебегать по узкой доске, перекинутой с крыши одной высотки на другую, или балансировать на перилах высокого моста. Любому, кто упрекнул бы меня в трусости, я бы рассмеялся в лицо. Мне уже давно не требовалось доказывать самому себе, что я не трус.
Я элементарно запретил себе думать о книжке, точно так же, как несколько лет тому, я вычеркнул из памяти коробочку с диафильмом, а заодно и Разумовского с Детской комнатой милиции.
За все минувшие годы у меня и мысли не возникло, чтобы просмотреть хоть один кадр страшной пленки — просто на свет, ведь проектора у меня не было. Я со спокойным сердцем прибирался в своем столе, перекладывал вещи с места на место, без священного трепета брал коробочку и снова прятал поглубже, от посторонних любопытных рук, и тут же переключался на что-то житейское. Я знал, что диафильм "К новой жизни!" всегда находится в дальнем углу ящика письменного стола, но при этом я отлично приспособился не вспоминать о нем…
Увы, в нечетные годы я терял равновесие, и тогда Разумовский посылал весточку. Или наоборот, сначала Разумовский давал о себе знать, а потом начинались кошмары и приступы. Божко, к примеру, полагал, что виной всему моя упадническая психологическая установка, откажись я от которой, болезнь бы давно покинула меня.
Приступы далеко не всегда заканчивались судорогами и потерей сознания. По совету Артура Сергеевича я с восьмого класса носил на левом запястье вместо часов браслет с ярко-красным пластиковым кругляшом, который вырезал из колпачка какого-то распылителя. Браслет прятался под манжетом, так, чтобы ни у кого не возникало ненужных вопросов. Если я успевал вовремя сконцентрироваться на браслете, все заканчивалось недолгим ступором, который окружающие даже не всегда замечали, потому что он длился не больше нескольких минут, и все считали, что я просто задумался.
Помню, как весной девяносто третьего на лекции по латыни я обнаружил глубоко процарапанную на парте надпись: "Труп сделал из обезьяны человека". Перехватило дыхание, на голове шевельнулись волосы, точно сам Разум Аркадьевич ласково потрепал меня по загривку. Парта была старая, сплошь покрытая резной студенческой писаниной. Фраза об обезьяне и трупе гармонично вплеталась в замысловатый орнамент из имен, математических формул, дурашливых эротических эпитафий: "Я спросил у толстой тети: — Вы мне хуй не пососете?"
У меня даже не возникло сомнений, что на этом самом месте тридцать лет назад овладевал знаниями юный Разумовский — давешний студент педагогического института… Я впился взглядом в красный кругляш. Рот все равно перекосило, слюна белыми медленными фугасами бомбила труп, обезьяну и толстую тетю…
Под дружный смех аудитории наш преподаватель Борис Федорович Анисимов беззлобно откомментировал мои обильные собачьи слюни: "Рымбаев, в мое время добропорядочные студенты блевали на лекциях в портфель или в крайнем случае в рукав!" Добряк решил, что меня мучит алкогольный токсикоз, и отнесся к безобразию снисходительно. Я не разубеждал его.
Довелось мне увидеть и жирного Сухомлинова, моего конвоира. Эта нежданная встреча стоила мне шрама на руке. В феврале девяносто пятого мы с однокурсниками после успешно сданного экзамена сидели на лавочке в парке Горького, пили пиво, рассказывали анекдоты. Вдруг кто-то сказал: "О, менты пожаловали…" По парковой аллее катила милицейская легковушка, «Жигули» пятой модели. Машина остановилась возле ларька в десятке шагов от нашей притихшей компании. Из передней дверцы вывалилась серая туша, важно прошагала к ларечному окошку. Без сомнений, это был Сухомлинов. За минувшие шесть лет он сделался еще грузнее. Его визгливый бабий голос — Сухомлинов требовал у продавцов какие-то документы — нагонял мороки прошлого. Спасительный браслет, как назло, был погребен сразу под тремя рукавами — куртки, свитера и рубашки. Я просто не успевал до него добраться. Припадок однозначно привлек бы внимание Сухомлинова, а этого нельзя было допускать. В том, что он вспомнил бы меня, я не сомневался. Счет шел на секунды. Поэтому, вместо того чтобы поднести сигарету к зубам, я вжал алый тлеющий кончик в основание чуть заголившегося запястья — как раз между перчаткой и курткой. Затрещала кожа и сожженные волоски…
Пронзительная боль отрезвила. Я вышел из столбняка, отбросил сигарету. Ожог выглядел жутковато — воспаленное мясо без волдыря. Я отвернулся, чтобы приятели не заметили мое искаженное лицо, и пока Сухомлинов не укатил взимать дань с других парковых ларьков, я осторожно зализывал пылающую рану. Я очень намучился с этим ожогом, струп долго не заживал, а когда сошел, на его месте остался круглый, больного цвета шрам…
Случались и забавные эпизоды. Однажды приступ коварно подстерег меня в момент пробуждения. Сначала я увидел обои в навеки ненавистных васильках и колокольчиках, а затем, скосив обезумевшие глаза, детский столик, бамбуковую этажерку с книгами и понял, что всеми своими приметами меня окружает Детская комната милиции! В отчаянии я закричал, безответственно спуская пружину приступа…
В то утро я изрядно перепугал мою тогдашнюю подружку Оксану Багинец. Она пригласила меня к себе в гости с ночевкой, когда ее родители уехали на дачу, но вся обыденная предыстория спросонья вылетела у меня из головы…
Только это было потом… А пока мы втроем, какие-то оглушенные, возвращались от Божко. Троллейбуса решили не ждать, благо идти было минут пятнадцать. Я хорошо помню этот пеший обратный путь — он снова вернул мне ощущение семьи и дома. До того мрачные подозрения не оставляли меня, я постоянно жил предчувствием предательства и несколько дней подряд подкрадывался к родительской двери, выясняя, о чем они шепчутся. А все полуночные прения были обо мне, в том числе и про «отдавать» или "не отдавать". Впрочем, слово «реформаторий» так и не прозвучало, и с большой вероятностью можно было предположить, что родители имели в виду больничный стационар. Поэтому я сдерживался от громких разоблачений и, не обнаруживая себя, убирался на цыпочках в свою комнату.
Позже, от случая к случаю я заводил с папой задушевные разговоры — обычно старался подгадать с праздником или юбилеем. Выпивая, папа всегда делался каким-то податливым и влажным, словно от нахлынувших всем телом слез. Я просил: "Папка, ну скажи мне правду, теперь ведь уже можно. Ты же знал про Детскую комнату милиции…" — в надежде, что, размякший, он проболтается. И поразительно — вне зависимости от того, под каким градусом бывал папа, он мгновенно трезвел, точнее, высыхал — от мокрой сентиментальности не оставалось и следа, — и жестко отвечал, что о "детской комнате ему ничего не известно", хмурился и уходил в свою комнату, ссылаясь на головную боль.
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Мультики - Михаил Елизаров», после закрытия браузера.