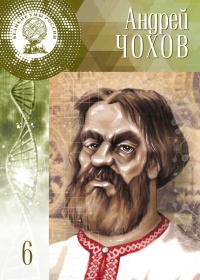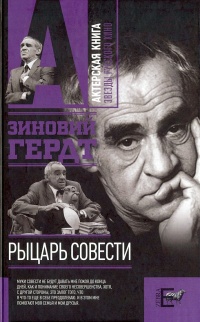Читать книгу "Обмененные головы - Леонид Гиршович"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Он говорил – этот тип – про скрипачей в Западной Германии. Все-таки я закончил музыкальное училище и был не из последних. Правильно – мысленно возражал я себе же, – все эмигранты говорят одно и то же: врачи – что здесь лечить не умеют (да были б в России у нас такие препараты, Господи…), учителя в ужас приходят от здешних школ, ученые за голову только хватаются: что у них в науке творится… И все, кого ни послушаешь, твердят – каждый о своем: профессиональный уровень здесь – ка-та-стро-фа. Почему бы советским скрипачам не петь ту же песню: скрипку в левую, смычок в правую – и пять тысяч марок зарплата. Непонятно только, откуда Берлинская филармония взялась. Я наслушался таких разговоров, люди спасаются ими, все верно, но… с демобилизацией-то он оказался прав.
В любом случае мне надо было чем-то себя занять. Так по прошествии стольких лет, робея и волнуясь, я открыл футляр, в котором лежала моя скрипка: что-то еще от меня осталось как от скрипача? Это по Ирининому настоянию мы взяли с собой скрипку. Мне милей было ее продать, а не наоборот – еще и тратиться на нее: носить к фотографу, к оценщику и в конце концов уплатить бешеную таможенную пошлину за вещь, которая никогда больше в жизни не понадобится. Собственно, Ирина держалась того же мнения – что не понадобится. Тем не менее при слове «скрипка», «скрипач» (ах!) с ней происходило то же, что со всеми. Что бы там мама ни говорила, она очень даже ценила во мне «скрипача». И уж никак не могла понять, почему, став писателем, надо зарывать в землю другие свои таланты. Почему «надо Энгру отказываться от своей скрипки» – вот как мы тогда выражались. Как мог, пытался я объяснить, что этюды Крейцера под аккомпанемент маминых воплей мне с детства отбили охоту «творить» смычком по струнам (вспоминаю моего учителя с воздетым перстом: «Крейцер, как говорил твой дед, это наш ежедневный хлеб, смоченный потом и слезами» – взгляд украдкой в сторону матери, всегда сидевшей на уроках).
Быстрей всего возвращалась беглость: пальцы на струнах орудовали уже как маленькие канатоходцы, а смычок по-прежнему оставался соломинкой в лапе орангутана. Практически у меня не было с собою нот. Приходилось играть – не считая гамм, гнущихся под тяжестью штрихов, – по тем нотным листочкам, что так и остались лежать в футляре после моего выпускного экзамена: 3-й Сен-Санса, 3-й Моцарта, ларго из 3-й сонаты Баха (порядковый номер ларго тоже три: после адажио, после фуги). В сумме же счастливое число для всех конфессий ; возможно, это и зачлось. Как бы то ни было, вместе с выученной когда-то программой в руках просыпались рефлексы, воскрешение которых на ином музыкальном материале (пускай даже более благоразумном для начала – «диетическом») не пошло бы так гладко. Это как, начав читать давно и основательно позабытую поэму – однако не менее основательно зазубренную в детстве, видишь: память уже забегает вперед, вспоминается вдруг что-то из середины, причем целые куски. Руки тоже – благодаря знакомому репертуару – проникались ощущениями, даже еще не востребованными.
Парой недель позже, когда голова была уже разбинтована, а по всему лбу, от оконечности правой брови к будущей левой залысине, пролегла багровая трасса (врач на мой вопрос сказал, что навсегда), когда я уже, можно сказать, был снова скрипачом, смачно извлекающим из скрипки начальные звуки сен-сансовского концерта, что у меня всегда эффектно получалось и с ходу приносило несколько добавочных очков, – в дверь позвонили.
Все оборвалось. Я опустил скрипку. Как это будет? С чем она пришла? Одна ли? С ним ли? С адвокатом – на предмет раздела воздуха? Либо… Она же сумасшедшая, сейчас стоит под дверью, которую я открою… Я тогда сошла с ума… Я – вернулась назад. Так, со скрипкой, я и открыл дверь.
Эся. Вошла. Как всегда, короткие движения, брови удивленно вскинуты, веки надменно опущены. Она ведь никогда не видела меня прежде со скрипкой. Посмотрела на мой лоб, ничего не сказала, но про себя, по-моему, ахнула. Я усмехаюсь: меченый теперь буду. Пиратское слово, отныне всерьез применимое ко мне. Я повторяю его несколько раз, примеряя то одну, то другую интонацию. Меченый! Меченый… Меченый? Меченый?!
Эся быстро села, на что там у меня можно было сесть, и закрыла лицо руками. Я узнавал тонкие вздрагивающие мамины пальцы – не израильские; у уроженок этой страны руки обычно крупные – при маленькой стопе (а у немок наоборот). Пантомима под названием «Ужас». Наверное, неподдельный, я в Эсе плохо разбирался. Другой вопрос, чем уж она была так потрясена, неужто только рубцом на лбу? Почему она ко мне приехала? Непрошеное сострадание само по себе достаточно неприятно. Я же у нее ничего никогда не просил. Еще неприятней прозвучало сказанное ею, шепотом: тебе тоже крикнули под руку?
Впрочем, выглядело так, словно у нее это вырвалось помимо воли.
Она знала все. И сразу мысль: а Ирина? Если б моя мысль не работала исключительно в одном направлении, тогда б я, может, обратил внимание на словечко «тоже» – в действительности ключ ко всей этой сцене, – знал бы я только, что крылось за ним… Ключ ко всей этой сцене, говоришь? Ко всей головоломке, которую мне еще только предстояло решить!
Ах, вот оно что, оказывается, Ирину она видела на концерте тель-авивского оркестра, но не со мной, прекрасно одетую – второе, кажется, было для нее более предосудительно, – но, главное, Ирина ее в упор не узнала. Да, я подтвердил, она меня бросила, материя довольно скучная, чтоб говорить об этом. Лучше пусть скажет, не видела ли она в оркестре такого скрипача… Но я понял, что не смогу описать его внешность. Волей-неволей пришлось вернуться к «скучной материи». Как будет у нас дальше, разводимся ли мы? Разводимся, и непременно. Не знаю только сроков. Пока что меня демобилизовывают, и я улетаю. Видишь, вот занимаюсь, прихожу в форму (когда я еще только приехал в Израиль, да к тому же с сообщением о маминой смерти, она заставила меня говорить ей «ты»).
Эся была правоверной сионисткой – как была уже правоверной сталинисткой, правоверной антинацисткой и т. п., следуя императиву души: всегда примыкать к какому-нибудь правому делу. Для нее покидающий Израиль – чтобы не подыскивать долго слова – дезертир, уже наказанный самим фактом своего дезертирства; банкрот, достойный презрения и жалости разом. Шрам, горевший у меня на лбу, как бы подтверждал эту точку зрения. Поэтому Эся великодушно воздержалась от комментариев. Впрочем, ее великодушию еще предстоит испытание, когда выяснится, что я уезжаю в Германию.
Страна, которой «эйн слиха», нет прощения, – в этом смысле она была Эренбургом в юбке . Хотя бы потому, что, работая в «Яд вашем», сделала Катастрофу, Холокост, Шоа своей профессией. Сотрудник исследовательского отдела (кажется, не рядовой), Эся являлась сама же и объектом собственных исследований – как пример «типично еврейской судьбы», сперва трагической, потом героической и потом уже счастливой. Неотъемлемое свойство человека такой судьбы, прошедшего нелегкий путь от Варшавы до Иерусалима, – это непримиримость к словам «Германия», «немцы». Здесь Эся била все рекорды: Моргентау предлагал распахать Германию под картошку, Эся бы засеяла ее солью. И ни один моралист в мире не посмел бы ее осудить: это ее отец на той фотографии – многократно увеличенной и занимающей полстены в центральном зале «Яд вашем». С той же фотографией на транспаранте она пикетировала концертный зал, когда Тель-Авивская филармония предприняла попытку сыграть что-то из Вагнера. Среди тысяч израильтян, готовых костьми лечь, но не допустить подобного кощунства, Эся единственная способна была отличить Вагнера от Чайковского – это подтверждается уже одним тем, что израильское радио, не объявляя имени автора, беспрепятственно передавало и Вагнера, и Штрауса, и Кунце – трех «табуизированных» в Израиле композиторов.
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Обмененные головы - Леонид Гиршович», после закрытия браузера.