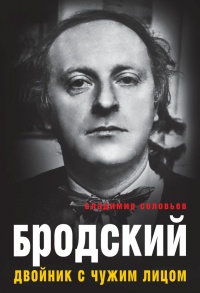Читать книгу "Высоцкий и другие. Памяти живых и мертвых - Владимир Соловьев"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
И все — отец, Эльвира, Сганарель — говорят с Дон Жуаном от имени Бога. Небеса для них не реальность, но цитация, ссылка на авторитет. Жуана коробит от этого всеобщего рефрена — у него личные отношения с Богом, и никому не дано в них вмешаться.
Это заповедная зона — вход в нее посторонним воспрещен:
— Полно, полно, это дело касается меня и небес.
Дон Жуан даже закрывает Сганарелю глаза платком, чтобы тот не заметил кивка статуи.
Сганарель, которого играл Лев Дуров, давал этому жесту своего хозяина точное истолкование: от него, Сганареля, скрывают главный аргумент в пользу существования Бога. В конце концов Жуан выталкивает его со сцены — ему предстоит свидание со статуей, диалог этот не для земных ушей. Свидетели здесь, как в любви, ни к чему, третий — лишний.
Николай Волков с самого начала играл Дон Жуана усталым от бремени содеянного зла, не способным уже к любовному вдохновению и красноречию. Он соблазняет по привычке, по обязанности — это дань легенде о себе. По сути, ему давно уже не до женщин. На женщин у него чисто механически срабатывает условный рефлекс — как на еду: сперма, как слюнки, при всей натянутости этого сравнения. Он не способен к выбору — это его трагедия: между двумя смазливыми крестьянками он мечется, как буриданов осел между двумя охапками сена. Не соблазнитель, а совратитель, совратитель невинности, потому хотя бы, что девушку (как и застоявшуюся вдовушку или даже не изменявшую прежде жену) можно получить, увы, только один раз. Вот именно: застенчивые гурии из мусульманского рая, даже если замужество лишило их гимена. Нищего он, кстати, совращает так же, как Шарлотту, не будучи уранистом — чтобы окрестный мир окрасить в один и тот же, адекватный его циничной и безверной душе колер.
Спор Жуана не с обветшалой догматикой Средневековья и даже не с человеческой совестью, а с самим Богом — ни меньше, ни больше. Где пределы человеческого духа, что человеку можно и что нельзя, и существуют ли вообще эти пределы? Где границы, положенные человеческой воле и человеческой свободе, или они — безграничны?
Волков с какой-то странной, чуть ли не обломовской ленцой, словно по инерции, произносит слова пьесы, а сам в этот момент думает совсем о другом — слабый, усталый, жалкий, Дон Жуан тщетно пытается понять опорные, святые условия существования человека на земле.
И когда появляется Командор — впервые такой ординарно-будничный, партикулярный, маленький человек с возложенной на него великой задачей, — Дон Жуан уже мертв. И нет в нем удивления перед смертью, но только покорность человека, давно ее поджидающего. И единственную возможность спасения — веру — он отвергает, ибо неверующий человек не может принять веру «на веру»: ему нужны доказательства, которые вера предоставить не может.
Credo, quia absurdum. Верую, потому что абсурдно.
Спор Дон Жуана — это еще спор с самим собой, и потому Анатолий Эфрос превратил традиционного буффона Сганареля в равного оппонента, персонифицировал в совестливом слуге совесть его не вовсе бессовестного хозяина.
Сганарель предупреждает нашу реакцию на Дон Жуана. Когда мы готовы уже осудить его, Сганарель неожиданно вступает с ним в спор и вызывает к Дон Жуану новый, пусть даже полемический, но и страдательный и еще сострадательный интерес. Дон Жуан поставлен на наше, зрительское, обсуждение вместе с бесконечным, запутанным клубком проблем, который он притащил с собой — на обсуждение, а не на осуждение.
Ведь даже когда Дон Жуан умирает и обезумевший в горе Сганарель повторяет бессмысленные слова о невыплаченном жалованье, а над хладным трупом его хозяина собираются оппоненты и кредиторы, то перед зрителями не группа судей, но скорее — людей скорбящих, плачущих, любящих. А сам Сганарель с телом Дон Жуана смутно напоминал микеланджелову Пьету, и весь спектакль приобретал неожиданно религиозную окраску — на моей памяти, единственный случай на советской сцене.
Ведь несмотря на безверие, у Дон Жуана тяжба не с легкомысленными кокетками, которые поневоле превращаются в кокоток, и не с их ревнивыми мужьями, женихами и отцами, но с небесами. Его диспут со Сганарелем — эхо иного его диалога: Сганарелю приходится представлять куда более высокую инстанцию, что не всегда ему под силу. У Сганареля в споре с хозяином плебейские агрументы, но он свято верит в идеологию, смысл и содержание которой давно уже выхолощены: что для того свято, для Дон Жуана — пустой звук, невнятный символ, устаревший предруссудок.
(Снова пропуск по означенной выше причине.)
Редко кто, как Эфрос, умел показать на сцене смерть — шекспировские герои, чеховские Тузенбах, Фирс и Треплев, Илюшенька, Дон Жуан, булгаковский Мольер… Даже в «Женитьбе», где никто не умирает, он пустил по сцене похоронную процессию, а в «Вишневом саде» разместил на сцене кладбище. Его «некрофильство» было синдромом сердечника, но художественно оно выплеснулось по-пушкински: «День каждый, каждую годину привык я думой провожать, грядущей смерти годовщину меж их стараясь угадать».
Эфрос отрепетировал свою смерть во многих спектаклях, а умер неожиданно, неподготовленно, как говорится, на посту — почти как его Мольер: через пару дней после проработочного собрания в театре на Таганке. Был ему 61 год, его родители умерли всего годом раньше — это к тому, что в нем был заложен генетический код долгожителя. Что-то в его смерти было зловещее и гнусное, какая-то скверность, словно заговор догнал его в конце концов и прикончил.
Гипотетическая история
Похоронив жену, Геннадий запил. А что ему оставалось? Он глушил тоску в водке, хотя раньше был как стеклышко, и если прикладывался к бутылке, то исключительно за компанию. Теперь он каждый день с утра отправлялся на кладбище, всегда один, а к вечеру был в размазе, и младшая дочь, двадцатитрехлетка Маша, которая взяла на себя всё по дому, раздевала его и укладывала спать. У нее были свои проблемы — ее бойфренд траванулся, и они в конце концов расстались. Любовник-наркоман и отец-алкоголик — не слишком ли? Отец забросил все дела, они постепенно разваливались — мы боялись, что повредится рассудком, черепушка поедет. У старшей дочки незнамо от кого был смугловатый высерок, и пока Тата была жива, семью этот приблудный мулатик как-то даже сплотил, но теперь всё распалось к чертовой матери. Там Тата была пианисткой в Мариинке, здесь давала уроки музыки, половину гостиной занимал рояль, были проблемы с соседями сверху, снизу и стенка в стенку, Тата старалась приспособить прием учеников ко времени, когда соседей нет дома. Это она приютила приятеля младшей дочери, хотя было видно, что ему не съехать с колес, и признала негритенка, не спрашивая старшую, кто ее обрюхатил, а теперь вот старшая, сбросив черного мальчика на бабулю, хотя та приходилась ребенку прабабушкой, укатила с новым хахалем в Коннектикут и наведывалась крайне редко: сын рос без матери, в этнически и расово чужой обстановке. На ответчике покойница расписалась по-русски: «Оставьте сообщение, обязательно доброе». У них все время кто-то гостил: его родственники с того берега, ее родственники из Греции, наезжали из России — особенно задержался бывший однокашник Таты, который приехал на пару недель, но все не уезжал и не уезжал, дождавшись сначала диагноза Тате, а потом ее смерти. Странный такой угрюмый субъект, этнически русский, рыхляк, давно небритый, с блуждающим взглядом и черными кругами под глазами. Пьян или трезв, Геннадий понимал, что семья держалась на одной Тате, которую любил безмерно, а после смерти — ее скрутил за пару месяцев поздно обнаруженный рак молочной железы, проще рак груди — еще сильнее. Представить ее мертвой он просто не мог, хотя весь ее физический упадок с сопутствующими муками происходил у него на глазах. Ей не было и сорока — на пару лет его младше, но в семье всем была как мать, ему в том числе, хотя его мать была жива, крепкая, памятливая, деятельная старуха, к девяноста, жила в паре от них кварталов и взяла на себя заботу о негритосе: «Где это он так загорел?» — спрашивали поначалу соседи, включая меня, но потом всё разузнали и попривыкли. Прабабуля смиренно жаловалась:
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Высоцкий и другие. Памяти живых и мертвых - Владимир Соловьев», после закрытия браузера.