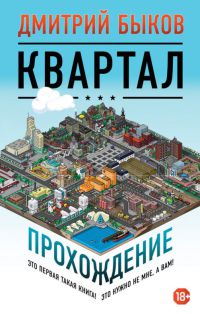Читать книгу "Улица Красных Зорь - Фридрих Горенштейн"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– Алло, – сказала Каролина.
– Это Сережа… Здравствуй, Каролина!
– Серьожа, здравствуй, добрый день. Как ты поживаешь?
– Я ждал тебя.
– Извиняй меня. Я немного задержалась, приболела. Ты получил мое письмо?
– Нет. Какое письмо?
– Я тебе писала.
– Каролина…
– Серьожа, я немного поспешаю… Всего тебе доброго, – и повесила трубку.
«Письмо, – подумал Сережа, – я уже три дня не заглядывал в почтовый ящик…»
Письмо лежало в почтовом ящике рядом с пакетом из медицинского журнала. Видно, прибыли гранки их с Алешей новой статьи. На письме Каролины был только Сережин адрес, написанный округлым почерком. Обратного адреса не было. Дрожащими, непослушными руками Сережа прямо на лестнице вкосую, неровно разорвал конверт, вытащил пол-листа белой бумаги, прочел залпом в тусклом свете из залитого дождем окошка: «Серьожа, я тебя не люблю. Я и ты, мы побаловали. Прощай меня. Пусть будет у тебя красный живот. К.»
Войдя в комнату, он прочел письмо еще раз медленно. Все слова были на месте, ничего не почудилось. «Красный живот, – думал Сережа, – красный живот». Он лег на постель и попытался представить себе Каролину такой, какой она была тогда в ту, подаренную ему ночь. Он пытался представить себе звуки той ночи, свет той ночи, запахи той ночи, прикосновения той ночи. Но представление получилось бледное, отвлеченное. Не в силах сосредоточиться, вообразить все это, он все сильней ожесточался на себя, себя обвиняя в случившемся. «Прощай меня – это значит: прости меня навсегда. И прощайся со мной навсегда». Вдруг сильно начали болеть зубы слева. Он взялся за левое плечо правой рукой, но болело уже сердце, пекло, точно на него лили кипяток. «Наверное, сердцебиение двести в минуту, – подумал Сережа, – или больше… Шея напряжена… Если б умереть… Но ведь не умру!.. Ведь не умру!.. Буду цепляться за жизнь, буду жить, обманутый жизнью… Ничтожество… Мерзавец, негодяй!..» В сильнейшем приступе ненависти к самому себе он поднял руку и изо всех сил ударил себя кулаком по голове, потом опять, потом он ударился лицом о стену. Лишь когда потекла кровь из носа – опомнился, испугался, пожалел себя и заплакал, как дитя. «Я сошел с ума, – подумал он, – сошел с ума… Красный живот… Я сошел с ума…» Думая так, он продолжал плакать навзрыд. Слезы были спасительны, так ему казалось. Душевная боль не покинула его, но он уже искал объяснение ей вне себя, первый – самый опасный, жертвенный – порыв уже минул. «Это не сумасшествие, а обычная истерия, – успокоил он себя, – эта истерия возможна у каждого в известных обстоятельствах… Сердце бьется тише, шею отпустило. Надо выпить кофеин». Он поднялся, шатаясь подошел к аптечке, выпил таблетку и, упав на койку, каменно, мертво уснул.
Когда проснулся, стена напротив была ярко освещена солнцем, и теней не было, как в полдень. Сердце не болело, голова кружилась легко, плавно. Томик Пушкина так и лежал на столе раскрытый с тех пор, как он снял его с полки при Каролине. Сережа приподнялся, потянулся к нему и тотчас почувствовал в голове нечто знакомое, бесконечно давно потерянное и вот теперь вновь обретенное. Это был тот самый гвоздь, глубоко, по шляпку вбитый в темя; вбитый когда-то в юности, затем потерянный в бесконечно давнем, зыбком, как мираж, дождливом теплом дне и вот теперь вновь обретенный. «Зачем луч утренний блеснул, зачем я с милою простился?» – прочел Сережа пушкинские строки. Ему уже трудно было понять, о какой милой, о каком прощании и о каком утре идет речь. Все было плотно, как обручами, стянуто кольцами психических обертонов Джемса и скреплено пушкинским вопросом – по шляпку вбитым в темя гвоздем. «Неудачная любовь подобна ностальгии, – думал Сережа. – Тоске по прошлому, которое никогда не исчезало, а постоянно окружало настоящее кольцами. И вот теперь эти кольца начали давить невыносимо». Сережа глубоко вздохнул; было трудно дышать. «Бэлочка, – нашел он вдруг давно потерянное, забытое имя, – Чок-Чок». Он звал на помощь ту давнюю детскую любовь, ту счастливую детскую похоть, то милое, родное детское несчастье. А гвоздь все давил и давил в темя, и кольца сжимали грудь. Но было и нечто спасавшее, помогавшее… То была пушкинская печаль, пушкинские вопросы. Пока он лежал, можно было пребывать в состоянии спасительной меланхолии, но он знал: стоит встать, умыть воспаленные от слез глаза, выйти на улицу – как этот спасительный свет померкнет, потому что бытовой ритуал, нас окружающий, преломляет и искажает все те спасительные лучи, которые око смертного не способно собрать воедино. И, боясь пошевелиться, Сережа лежал, глядя в потолок. Требовательно, настойчиво звонил ненужный, бесполезный теперь телефон. Вялой рукой Сережа взял трубку. Звонил Алеша, приглашал на дачу. «Пожалуй, это лучшее из всего, что сейчас может быть, кроме неподвижности. Но ведь постоянно в неподвижности пребывать невозможно», – подумал Сережа и согласился.
От Ярославского вокзала он доехал до нужной станции, пошел сначала привокзальной улицей, потом свернул влево. На убранном хлебном поле повсюду чернели птицы, бродили в поисках оставшихся колосков. На пастбище у реки, бренча колокольцами, ходили коровы. Перейдя мост, Сережа пошел направо вдоль реки, вслушиваясь в многоголосое щебетанье среди приречного кустарника – видимо, и птицы радовались нежаркому, погожему осеннему дню.
– Что произошло у тебя с Сильвой? – спросил Алеша, когда, встретившись, они с Сережей пошли погулять в рощу.
«Сильва, – подумал Сережа, – при при чем тут Сильва?»
– При чем тут Сильва? – спросил он.
– Ах, при чем, при чем, – разволновался Алеша, – при том, что Сильва сейчас так же несчастна, как и ты, из-за этой чешки… Не понимаю… Обаятельна? Да, обаятельна. Красива? Да, красива. Однако есть и другие, не хуже. Чтоб так воздействовать, добиваться такого к себе влечения людей поддающихся, подходящих для ее гипноза, безусловно, нужны какие-то патологические способности. Ведь если внимательно приглядеться, то, помимо этих способностей и внешнего обаяния, она обычная глупая баба, прогрессивная идиотка, любящая поговорить о либерализме. Вы оба, ты и Сильва, ее жертвы.
– При чем тут Сильва? – спросил Сережа.
– При чем? – нервно сказал Алеша. – При том, что она тоже влюблена в чешку.
– Как влюблена?
– Лесбосская любовь, понимаешь? Лесбос… Раз ты уж столкнулся с этим, то я вынужден открыть эту несчастную тайну нашей семьи. Дурная наследственность, Сережа… Ведь папа не живет в семье из-за этих маминых служанок, таких как Ксения. Это ужасно, но это не преступление, а болезнь, и потому ты должен быть снисходителен к Сильве. Ведь чтобы заболеть, нужна не только дурная наследственность, но и индивидуальное предрасположение. Предварительный травматический невроз… А Сильва с детства дружила с одним своим одноклассником, и в совсем юном, почти детском возрасте то ли по собственному согласию, то ли еще как-то, но он грубо, неумело покушался на ее невинность. С тех пор у нее то, что называют постконнубиальным помешательством. Помешательством после первой брачной ночи. Я пробовал как-то с ней говорить в минуту откровенности о ее несчастном пристрастии, она мне ответила: «Ах, Алеша, мужчины так грубы!..» Петра Павловича она держит для прикрытия… Бывали у нее и прежде разные увлечения подобного рода, но так оголтело, как с этой чешкой, впервые. Впрочем, чего требовать от Сильвы, женщины не слишком умной, слабой, скажу откровенно, хоть она мне и сестра, если ты, Сережа, ты, медик, знающий в совершенстве женскую конструкцию, – и вдруг такое, извини меня, обожествление uterus и clitoris. Это, извини меня, физиологическое идолопоклонство…
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Улица Красных Зорь - Фридрих Горенштейн», после закрытия браузера.