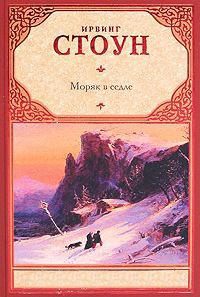Читать книгу "Мартин Иден - Джек Лондон"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– Ты свято чтишь ходячие истины, все, что общепринято и общепризнано, – сказал однажды Руфи Мартин, когда они заспорили о Прапсе и Вандеруотере. – Согласен, чтобы цитировать, они куда как хороши– два самых видных критика в Соединенных Штатах. Каждый школьный учитель в Америке смотрит на Вандеруотера снизу вверх как на главу американской критики. Однако я читал его писанину, и мне кажется, это образец бессмысленного краснобайства. Да ведь он – спасибо Колетту Берджесу– попросту банален и смертельно окучен. И Прапс не лучше. Его «Ядовитые мхи» прекрасно написаны. Все запятые на местах, а тон
– ну до чего величественный, до чего же величественный. Ему платят больше всех критиков в Америке, хотя– прости меня боже– никакой он не критик. В Англии уровень критики много выше.
Но эти двое изрекают то, что думает публика, и притом изрекают так красиво, так нравственно, так самодовольно– вот где собака зарыта. Их рецензии благонравны как воскресенье в Англии. Они– рупор общественного мнения. Они поддерживают преподавателей языка и литературы, а те поддерживают их. И ни у одного из них не откопаешь ни единой своеобычной мысли. Они признают только общепринятое– в сущности, они и есть общепринятое. Они не блещут умом, и общепринятое прилипает к ним так же легко, как ярлык пивного завода к бутылке пива. И роль их заключается в том, чтобы завладеть молодыми умами, студенчеством, загасить в них малейший проблеск самостоятельной оригинальной мысли, если такая найдется, и поставить на них штамп общепринятого.
– Мне кажется, – возразила Руфь, – оттого, что я придерживаюсь общепринятого, я ближе к истине, чем ты, когда ты ополчаешься на все это, словно дикарь с островов Южного моря.
– Все святыни сокрушили сами миссионеры, – со смехом возразил Мартин. – И к несчастью, все миссионеры отправились к язычникам, и дома теперь некому сокрушать авторитеты мистера Вандеруотера и мистера Прапса.
– А заодно и преподавателей колледжей, – прибавила Руфь.
Мартин решительно покачал головой.
– Нет, преподаватели естественных наук пускай остаются. Это поистине замечательный народ. А вот девяти десятым филологов и лингвистов, этим безмозглым попугайчикам, очень бы полезно проломить головы.
Это было довольно жестоко по отношению к преподавателям словесности, а для Руфи прозвучало святотатством. Не могла она не сравнивать преподавателей, подтянутых, эрудированных, в хорошо сидящих костюмах, с хорошо поставленными голосами, в ореоле культуры и утонченности, – с этим невозможным юнцом, которого она почему-то любит, хотя костюм никогда не будет сидеть на нем хорошо, его выпирающие мускулы свидетельствуют о тяжком труде, в разговоре он горячится, спокойные доказательства подменяет бранью, а невозмутимое самообладание пылкими возгласами. Те, по крайней мере, хорошо зарабатывают и они джентльмены – да, да, она вынуждена в этом признаться, – а он не может заработать ни гроша, и, конечно же, он отнюдь не джентльмен.
Она не взвешивала слов Мартина, не вдумывалась, доказательны ли они. Пришла к убеждению, что он не прав, исходя– правда неосознанно– из сопоставлений чисто внешних. Профессора и преподаватели правы в своих суждениях о литературе, потому что они сделали карьеру. Суждения Мартина о литературе ошибочны, потому что он не мог продать плоды своих трудов. Говоря словами Мартина, они преуспели, а он– нет. Да и странно было бы, чтобы он оказался прав, – он, который еще так недавно стоял в этой самой гостиной, пунцовый от смущения, неуклюже здоровался с теми, кому его представляли, со страхом озирался по сторонам, как бы раскачиваясь на ходу, стараясь не задеть плечом какую-нибудь безделушку, спрашивал, давно ли помер Суинберн, и хвастливо заявлял, что читал «Эксцельсиор» и «Псалом жизни».
Сама того не сознавая, Руфь подтвердила слова Мартина, что она преклоняется перед общепринятым. Мартину был внятен ход ее мыслей, но он воздержался от дальнейшего спора. Не за ее отношение к Прапсу, Вандеруотеру и к преподавателям английской словесности он любил Руфь и уже начинал понимать и все больше убеждался, что иные предметы его размышлений и области знания, доступные и открытые ему, для нее не только книга за семью печатями, но она даже и об их существовании не подозревает.
Руфь полагала, что он ничего не смыслит в музыке, а, говоря об опере, – умышленно все ставит с ног на голову.
– Тебе понравилось? – однажды спросила она Мартина, когда они возвращались из оперы.
В тот вечер он повел ее в оперу, ради чего весь месяц жестоко экономил на еде. Напрасно ждала она, чтобы он заговорил о своих впечатлениях, и наконец, глубоко взволнованная увиденным и услышанным, сама задала ему этот вопрос.
– Мне понравилась увертюра, – ответил он. – Это было великолепно.
– Да, конечно, но сама опера?
– Тоже великолепно, я имею в виду оркестр, хотя я получил бы куда больше удовольствия, если бы эти марионетки молчали или вовсе ушли со сцены.
Руфь была ошеломлена.
– Надеюсь, ты не о Тетралани и не о Барильо? – недоверчиво переспросила она.
– Обо всех о них, – обо всей этой компании.
– Но ведь они великие артисты, – возразила РУФЬ.
– Ну и что? Своими ужимками и кривляньем они только мешали слушать музыку.
– Но неужели тебе не понравился голос Барильо? Говорят, он первый после Карузо.
– Конечно, понравился, а Тетралани и того больше. Голос у нее прекраснейший, по крайней мере так мне кажется.
– Но, тогда, тогда…– Руфи не хватало слов. – Я тебя не понимаю. Сам восхищаешься их голосами, а говоришь, будто они мешали слушать музыку.
– Вот именно. Я бы многое отдал, чтобы послушать их в концерте, и еще того больше отдал, лишь бы не слышать их, когда звучит оркестр. Боюсь, я безнадежный реалист. Замечательные певцы отнюдь не всегда замечательные актеры. Когда ангельский голос Барильо поет любовную арию, а другой ангельский голос– голос Тетралани– ему отвечает, да еще в сопровождении свободно льющейся блистательной и красочной музыки– это упоительно, поистине упоительно. Я не просто соглашаюсь с этим. Я это утверждаю. Но только посмотришь на них, и все пропало– Тетралани ростом метр три четверти без туфель, весом сто девяносто фунтов, а Барильо едва метр шестьдесят, черты заплыли жиром, грудная клетка точно у коренастого кузнеца-коротышки, и оба принимают театральные позы, и прижимают руки к груди или машут ими, как помешанные в сумасшедшем доме; и все это должно означать любовное объяснение хрупкой красавицы принцессы и мечтательного красавца принца– нет, не верю я этому, и все тут. Чепуха это! Нелепость! Неправда! Вот и все. Это неправда. Не уверяй меня, будто хоть одна душа в целом свете вот так объясняется в любви. Да если бы я посмел вот так объясниться тебе в любви, ты бы дала мне пощечину.
– Но ты понимаешь, – возразила Руфь. – Каждое, искусство по-своему ограниченно. (Она торопливо вспоминала слышанную в университете лекцию об условности искусства.) В живописи у холста только два измерения, но мастерство художника позволяет ему создать на полотне иллюзию трех измерений, и ты принимаешь эту иллюзию. То же самое и в литературе– писатель должен быть всемогущ.. Ты ведь согласишься с правом писателя раскрывать тайные мысли героини, хотя прекрасно знаешь, что героиня думала обо всем этом наедине с собой, и ни автор, ни кто другой не могли подслушать се мысли. Так же и в театре, в скульптуре, в опере, во всех видах искусства. Какие-то противоречия неизбежны, их надо принимать.
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Мартин Иден - Джек Лондон», после закрытия браузера.