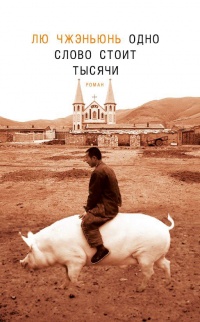Читать книгу "Последний колдун - Владимир Личутин"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– Киса-то расшалився, – отмечала она, мельком взглядывая в окно. – Котик-то мой мордастенький расшалився.
А у Геласия Созонтовича каждая косточка выболела еще с ночи, и голова кружилась, позывала к подушке: но не в своем дому, не распластаешься, когда душе охота, живо сноха скомандует. В кухне около порога поставили Геласию пружинную койку, и он зажил виновато, еще не привыкнув к новому состоянию примака и бобыля. Да и какой тут сон под чужой крышей, когда каждая железка норовит под ребро и нет покоя худосочному безмясому телу. Ночью он долго ширил глаза, а когда забывался, то часто всплакивал без слез и потому просыпался. Наверное, костьми услышал он, как пошел навальный снег, посыпая споро, с разбегом, шурша о стекла; и когда под утро улеглась поносуха, темь в кухне сразу ослабла, разбавилась с улицы отраженным льдистым светом. «Вот и дожился, – бормотал старик вслух, – как кукушонок ныне, как шиш лесовой, где приткнусь, тут и радый господу богу, что приют дал. А так ли жил, ой-ой. Да и то благо, и то утешенье, что в своей деревне, у своего погоста. А подайся к дочерям, чужие тараканы заедят, внуки изведут нытьем. Тут-то, может, и повезенка, на родной сторонушке...»
Ели долго, молча. Фланелевая рубаха у Василиста закатана по локти, веснушчатые руки покрыты золотистым волосом, и потому ладони от толстых неохватных запястьев, бурые и потрескавшиеся, казались чужими. Хлеба и мяса Василист откусывал помногу и часто, нажористый, ествяный был мужик, плотно наедался, словно бы на неделю. Порой взглядывал жуковатыми глазами по застолью, неожиданно и резко уросил головою, точно сгонял надоедную муху, и, знать, все подмечал, все вылавливал, ничто не ускользало от его притаенного досмотра. А Геласию нынче какая еда: чашку чая да ржаного сухарика повозил в блюдце – вот и сыт, посудинку опрокинул донцем вверх и глызку сахару, обсосанную, ноздристую, сверху положил. Только подумал с грустью, что вот рыбки бы свеженькой охота, а внук уж поймал затаенную мысль:
– Ты бы, дедо, сеточку кинул, разок помочил в реке. Глядишь и ульнет дуриком. С тебя инспекторам какой спрос...
– Не... Я, милок, свое отрыбалил. Я свою рыбу взял, любить твою бабу.
– Ну, гляди...
Геласий не заметил, как нервно дернулась сноха, скривила усатый рот и локтем отодвинула чашку. Василист, разморенный едой, глядел сыто, лениво, размывчиво, и старик, обманутый масленым обличьем внука, вдруг с надеждой решил, что если попросить хорошенько, то с избой может все обойтись, и рушить, чего гляди, ее повременят.
– Слышь, милок, может, погодите с избой-то? Далась она вам, – заискивающе глянул поверх очков.
– А чего годить? Тебя никто не неволил. Сам согласье дал, так чего же ты, как навоз в проруби. Нет, правда, чего годить-то, ты подумал дурной башкой? – вдруг взволновался Василист. – Иль опять винтик за винтик? Чтоб мне эти разговорчики, слышь? Тебе у нас плохо? Нет, ты скажи... Тебе плохо у нас? Еды до отвала, тепло, покой. Дочери родные, сыновья, можно сказать, кинули тебя, а я не-е. Я родню уважаю.
– Да я так, к слову. Своего-то жалко.
«...У дочерей, конечно, житуха не в пример лучше. Покричат да и отмякнут: своя кровь, – вслух думал Геласий, выходя на крыльцо и жмурясь от снежной светлыни. Слова копились больные по смыслу, но произносились вчуже и не вызывали прежней тревоги и печали. – Чему бывать – того не миновать. Раз решил, что жить надо, то и путайся на земле на матери».
Еще днями ранее (возле Полиной могилы) зарубцевалась рана, запеплилась обида, словно бы веком ее не бывало, и дух Геласьевый, прежде постоянно всполошенный, не мельтешился более. Крепи грудные на месте, и сердчишко отзывается на каждый натужный шаг колотьем и одышкой, просится наружу, и все-таки до студеной оторопи ныне пусто и ровно внутри, где прежние годы жила тягость. Так случалось с ним и ранее, но изредка, когда снилось, что умирает будто... Поехать-то, отчего бы не поехать, рассуждал сам с собой, направляясь неведомо куда. Накормят, напоят, слава богу ныне куски не считают, изо рта не вырвут. Ну, а если помру? Они же сюда не потащут, стомоногие, сроют старика в чужу землю. Вот где закавыка. Дескать, с самолетом возни столько, ухлопаешься, да и в копейку влетит. Скажут, эко у покойника галенье, какое различье, где косью гнить. Вот и упехают, Ксюха – та живо упехала бы на чужое кладбище. А я наведи поди контроль за има, коли мертвый буду: с того света голос не подымешь, не проникнет до их тогда мой голосишко, сколько ни вякай. Как ли тут перемогусь, недолго и коптеть, может, завтра и край. Зато возле Полюшки возлягу, поди заждалась. Ох ты, сердешная...
Снег, высоко выпавший, еще крепился, но остья жесткой травы и будылья конского щавеля распрямились, заскрипели, и всякого мусора и невидной глазу пыли скоро нанесло откуда-то и натрясло, и первая белизна недолго сияла. Редкий следок напечатался по мосткам, словно бы гипсовый, вечный следок, подробный и чужой. Небо раздернулось, потянуло жиденькой синевой, солнце проклюнулось робкое, латунной краснины, без света и тепла. Там, в занебесье, осень, смирившись, уже поклонилась зиме, но здесь, на земле, люди еще не знали о том и плановали свою жизнь по прежнему уставу до той поры, пока жареный петух в задницу не клюнет. Выморочно было, нерадостно, дым сажно сеялся над забелевшимися крышами, пачкая их, и только глупый воробей, сбившийся к жилью, весело купался в снегу и перетряхал перо. Геласий снял очки и, опасливо завесившись щетинистой бровью, тускло глянул на солнце, и оно не опалило, не ошеломило его: ничего, кроме ровного медного блеска, не высмотрел он, ни тени какой-то неземной, ни плеска крыл, ни вещего знака – пусто все и плоско. «Такое пространство, такая горняя вышина – и неуж впусте? Может, зря и стремимся?» Он перевел взгляд ниже, а там все знакомое, живое, свое будто, но столь же необозримое с деревенского крутогорья: черные леса, вздыбившиеся неровно; смутные проплешины дальних Дивьих холмов и пустых пожен; продутые насквозь поскотины и поля с золотистым отсветом жнивья; бережины, густо обросшие рябиной, еще не опавшей, призывно пылающей над снежным наплывом. «Так сколько воли кругом», – изумился Геласий, впервые обозрев землю и небо разом, ведь раньше-то до того ли было ему? Узкоскулая лодочка, рябь свинцовой иль зеркальной воды, неутомимо и бесследно утекающей; руки, зачугуневшие от векового полосканья в реке; рюжи, пустые, в черной коре мелкой водоросли, иль полные до завязки серебристым хариусом; сетки, невода, поплави, верши, ижи, самоварного блеска блесенки; вытертый, истончившийся от ладоней пехальный шест; штаны, вечно сырые до огузья, отчего и прозвище прилипло; пробежистый огонек костра под елью; редкая побывка в дому возле почужевшей жены; и снова озерный лов, пудовая пешня, готовая вырваться из рук, мертвое безмолвие снегов, бочки, до самого краю закатанные щукой и окунем, сигом и семгой, лещом и сорогой. Осень, зима, лето. Год за годом. Плечо, скошенное от тетивы и вечная мозоль на нем, похожая на вздувшийся застарелый рубец, и кожа на ладонях чужая, отставшая от кости, дряблая, изъеденная водой и рассолом... Сколько же он достал на своем веку рыбы, скольких же людей на свете он выкормил, совсем чужих, никогда не виденных, может, живущих на другом конце России, в скольких же людях отозвалась добрым воспоминаньем его, Геласия Созонтовича, работа, ровная, разумная, без малейшего каприза и до самого телесного износа. Жил вроде бы сам по себе, угрюмоватый, обиженно замкнувшийся бывший георгиевский кавалер, но оказывается, до самого конца он окручен прочим народом, коего никогда не видывал и не знавал. Не чудно ли это и не велико ли это – таинственная и животворная связь меж всеми? И ведь он, Геласий Созонтович, тоже чью-то милость и труд бездумно пользовал, когда табачком затягивался, хрустким, запашистым, согревая иззябшее нутро; или солью пересыпал закоченевшую рыбу; или ситчики привозил из рыбкоопа бабе своей в подарок, а та в сарафанишке цветастом крутилась после и хвалилась своею статью, позывая на любовь; иль прикладистое ружье вскидывал на птицу; иль рушил пусть и черствый, закаменевший, но сытный и спасительный хлеб. Нет, не думалось никогда Геласию Созонтовичу об удивительном родстве многих людей, но отсвет постоянной благодарности и приязни, неслышно поселившейся в душе, помогал ему жить. Да и попробуй же думать о таком взаимном одолжении, и самые черные мысли закрадутся и полонят голову, и отравят бытованье: а верно ли тебя другие отблагодарили, да все ли тебе отплатили за работу, с равною ли силою те, другие, исполнили свое назначенье? От таких мыслей можно и осатанеть, и возненавидеть ближнего, и тогда черная зависть одолеет тебя.
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Последний колдун - Владимир Личутин», после закрытия браузера.