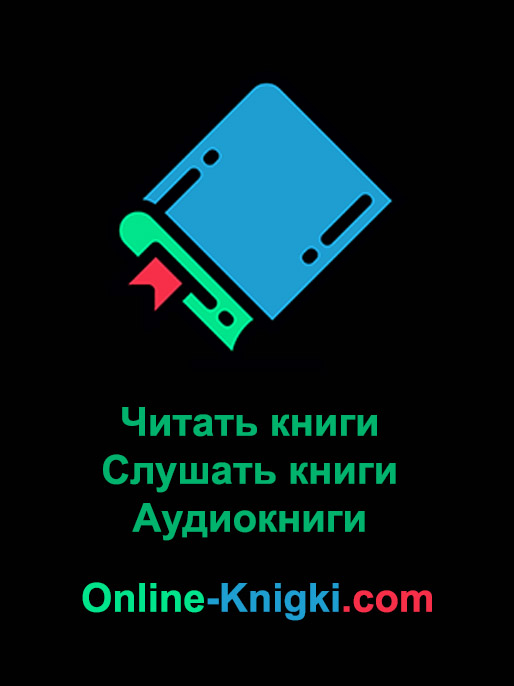Читать книгу "Прогулки с Пушкиным - Андрей Донатович Синявский"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Стало быть, в Пугачеве, с точки зрения Пушкина, тоже бьется чувство чести? Безусловно. При первом же появлении в роли царя-самозванца он машет шашкой впереди войска, невзирая на картечь. Поэтому он платит Гриневу сторицей за пустяковое одолжение. Поэтому лелеет в душе гениальный замысел похода на Москву. Оттого же предпочитает орла ворону в старинной калмыцкой сказке, к недоумению дворянина Гринева, но внятной поэту Пушкину. И ведет себя достойно в час казни. Даже у беглого каторжника и профессионального убийцы Хлопуши срабатывают свои – высокие и свирепые – представления о чести, как присутствуют они вообще, в разном понимании, в идее и видении русского народа у Пушкина.
Но полюс чести смещен в “Капитанской дочке” в семейство Мироновых-Гриневых, отчего они породнились и общими усилиями противостоят мужицкому бунту. По замыслу Пушкина, идея чести, принадлежавшая дворянству, обязана распространяться затем на весь черный народ (см. Заметки Пушкина о русском дворянстве). Мы имеем дело с очередной российской – с дворянской на сей раз – утопией. На той утопии погорели декабристы. Думали, внесут свободу, независимость и честь в сознание русского люда. Но в данном случае это совсем не важно. Мы занимаемся, по счастию, текстом, а не общественным устроением. А в тексте, в ответственный момент, можно воздеть на мачте какой-нибудь геральдический знак. Что-нибудь высшее, рыцарственное. Отвечающее лучше всего ощущению и осмыслению чести. “В самом деле она встретила меня в дверях и вручила мне шпагу…”, “Я невольно стиснул рукоять моей шпаги, вспомня, что накануне получил ее из ее рук, как бы на защиту моей любезной. Сердце мое горело. Я воображал себя ее рыцарем”.
Короче, в пушкинском романе мы наблюдаем еще один поворот и виток жанра. То авантюрный, то документальный, то исторический жанр. А еще внутри сидит и смеется обыкновенный жанр семейного романа. И, наконец, получайте, – рыцарский роман. Разумеется, само слово “рыцарь” в наши подлые дни воспринимается с довеском реалистических опечаток. Сквозь призму, в лучшем случае, последнего в мире рыцарского романа – “Дон Кихот”. И вот сошлось! По-видимому, неслучайно злобный Швабрин науськивает и пугает Гринева в Пропущенной главе: “А велю поджечь амбар, и тогда посмотрим, что ты станешь делать, Дон-Кишот Белогорский”.
Боже мой, подумалось, какое раздолье! Опять наш Пушкин скачет на коне впереди всей доморощенной российской гвардии, прививая ей образцы избранной мировой поэзии и прозы! Задолго до тургеневских “Степного короля Лира” и “Гамлета Щигровского уезда”, до лесковской “Леди Макбет Мценского уезда”, разве что поотстав немного от “Российского Жилблаза” Нарежного, Пушкин успел застолбить образ нашего собственного, Белогорского Дон-Кишота.
Пораскинув умом, надо признать, однако, что прапорщик Гринев все же не Дон Кихот, хотя между ними по временам проскальзывает многообещающее сходство. Подобно Дон Кихоту, Гринев, в общем-то, тоже принадлежит к ордену странствующих (или, более похожий на Пушкина, вариант у Сервантеса, к ордену блуждающих) рыцарей, учрежденному специально “для безопасности девиц” и с целью “помогать обездоленным”. Когда Марья Ивановна в письме упреждает Петрушу, что “вы всякому человеку готовы помочь”, она его несколько идеализирует в духе Дон Кихота, так же как его “башкирская долговязая кляча” или, по слову Савельича, “долгоногий бес” с известной натяжкой могут сойти за Росинанта. А главное, бесспорно, что в роковые, решительные мгновения, отнюдь не будучи сумасшедшим, Гринев начисто отказывается от доводов рассудка и вопреки очевидности поступает, как поэт, – по внезапному наитию, по вдохновению. Скажем, берется с помощью роты гарнизонных инвалидов и полсотни неверных казаков очистить Белогорскую крепость. А нет, так он, по-донкихотски один, поскачет на страх врагам освобождать капитанскую дочку. Один войдет в клетку со львами (не подозревая, что львы повернутся к нему благожелательно задом). “Вдруг мысль мелькнула в голове моей…”, “Странная мысль пришла мне в голову: мне показалось, что провидение, вторично приведшее меня к Пугачеву, подавало мне случай привести в действо мое намерение”. И провидение выручает. Сумасбродство удается, фантазия сбывается. Поэтическая интуиция, видно, пришлась по душе Пугачеву. “И ты прав, ей-богу, прав! – сказал самозванец”.
Но, может быть, пуще Гринева атмосферу “Дон Кихота” воссоздает в “Капитанской дочке” его напарник Савельич, эта вполне самобытная версия Санчо Пансы. Тот, как мы помним, прославился “тем, что был самым лучшим и самым верным оруженосцем из всех, когда-либо служивших странствующим рыцарям”. К Савельичу с лихвой применима также рекомендация Дон Кихота: “мой добрый, мой разумный, христиански настроенный и чистый сердцем Санчо”. Дело, однако, не столько в похвальной преданности слуги господину (в чем наш крепостной раб намного обставил Санчо), а в сочетании удивительной сердечной чистоты с наивным простодушием и здравым смыслом, с комической рассудительностью. Вкупе с рыцарской, доходящей порою до безрассудства, храбростью Гринева комический старик Савельич создает тот прихотливый, вьющийся юмором рисунок, который сродни Сервантесу, как бы далеко ни отстояла наша неразлучная пара от испанского аналога. Сравнительно с Дон Кихотом, конечно, Гринев, средней руки дворянин, кажется одномерной и даже скучноватой посредственностью, а подвиги его, за редким исключением, не возбуждают смеха. Но верный помощник своей психологической сложностью искупает этот пробел в характере молодого барина и неуместными репликами оттеняет его поведение и заставляет совместную драматическую картину играть и щелкать, что твой соловей. Вспомним хотя бы (непременно, с учетом контекста – по контрасту) потешные реплики Савельича: “Не упрямься! Что тебе стоит? плюнь и поцелуй у злод… (тьфу!) поцелуй у него ручку” (под угрозой виселицы); “…И почивай себе до утра, как у Христа за пазушкой” (в первую ночь под властью Пугачева); “…А с лихой собаки хоть шерсти клок” (при отъезде из Белогорской крепости); “Охота тебе, сударь, переведываться с пьяными разбойниками! Боярское ли это дело?” (стычки с пугачевцами при осаде Оренбурга); “Дитя хочет жениться! А что скажет батюшка, а матушка-то что подумает?” (при отправке Марьи Ивановны в деревню).
Между тем своего запаса чести, лишь понимаемой немного иначе, у Савельича хватает. Не меньше, чем у его строптивого хозяина. Вообще весь этот круг знакомых просто одержим чувством и сознанием чести. “Бесчестия я не переживу”, – спокойно произносит Марья Ивановна перед лицом насилия, готовая, подобно Савельичу, погибнуть за своих избавителей и благодетелей. Ту же мысль,
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Прогулки с Пушкиным - Андрей Донатович Синявский», после закрытия браузера.