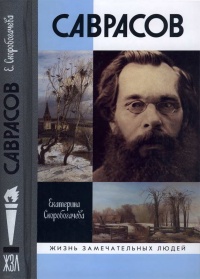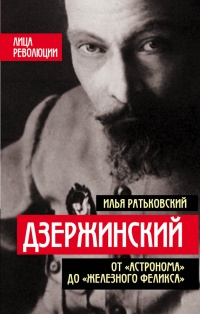Читать книгу "Гранд-отель "Бездна". Биография Франкфуртской школы - Стюарт Джеффрис"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Картезианское cogito (я мыслю, следовательно, существую) есть, для Хоркхаймера, пример одного из таких неверных шагов традиционной теории: он кажется основанным на фактах, осмысленным, самоочевидным, но, по сути дела, он все, что угодно, но только не это, поскольку протаскивает за собой контрабандой все виды философских допущений. Например, о том, что существует некое «я», длящееся в пространстве и времени. Хуже того, метод Декарта освобождает субъекта от каких-либо социальных детерминаций, превращая его в пассивного наблюдателя, вместо того чтобы вовлечь (в идеале диалектически) в конструирование реальности.
Возвращение к Гегелю и диалектическому методу означало для Франкфуртской школы бегство из оков научного марксизма того типа, который продвигал один из ее сотрудников, Генрик Гроссман, но который другие, в особенности Хоркхаймер, считали неадекватным современной эпохе. Освоение Гегеля и раннего, гегельянского Маркса позволило им мыслить отчуждение, сознание, овеществление и влияние этих факторов на остановку революционного процесса в позднекапиталистическом обществе. Это вдохновило их на возрождение введенного Гегелем упора на разум. Немецкие идеалисты различали Vernunft (критический разум) и Verstand (инструментальный разум). И у Канта, и у Гегеля Vernunft выходит по ту сторону простых явлений, к лежащей в их основе действительности. Vernunft проникает в эти диалектические отношения, тогда как Verstand, напротив, структурирует мир явлений в соответствии со здравым смыслом. Vernunft озабочен целями, Verstand – всего лишь средствами. По мнению самого преданного гегельянца Франкфуртской школы, Герберта Маркузе, Verstand стал инструментом капитализма, а Vernunft – тем средством, что поможет нам бросить ему вызов{243}.
В этом гегельянском повороте Франкфуртской школы назначение Маркузе было ключевым. Именно Маркузе, еще даже до Адорно, понял и сделал предметом теоретического рассмотрения силу негативного мышления. Он противопоставил его не только позитивизму, но и традиции эмпиризма, господствующей в англоязычном мире, в котором Франкфуртская школа искала прибежище от нацистов. Эмпиризм наивно принимает вещи такими, каковы они есть, преклоняя колени перед существующим порядком фактов и ценностей. Гегельянское понимание Маркузе заключалось в том, что критический разум раскрывает сущность наличного существования. «Сущность» здесь – это технический философский термин, которым Маркузе обозначает полностью реализованный потенциал некой существующей вещи. Если, к примеру, обществу не хватает свободы, материального благосостояния и справедливости, позволяющим ему воплотить свой потенциал, то работа критического теоретика состоит в том, чтобы, применяя свой критический разум, провозгласить такое общество «дурной формой действительности, сферой ограничения и рабства»{244}. Эмпиризм как философская программа не в состоянии сделать этого.
Кажется немного странным, что гегелевский идеализм, который Маркузе полагает критическим и революционным, был изначально философией мыслителя, считавшегося в Пруссии апологетом статус-кво, тогда как именно светила эмпиризма в некоторых отношениях были социальными радикалами. Джон Локк, например, поставил под вопрос божественное право королей, а скептическая оценка Дэвидом Юмом религиозной веры означала все что угодно, но только не принятие существующего социального порядка. Интригует также то, что эмпиризм процветал в Британии и Америке – тех самых странах, где большое число беженцев из Германии, таких как Маркузе, искали спасение от нацизма. Этот факт делает интересной попытку Маркузе в «Разуме и революции» спасти репутацию Гегеля в этих странах от незаслуженной славы якобы прародителя фашизма.
Маркузе был знатоком Гегеля, внесшим свой вклад в ренессанс этого немецкого философа-идеалиста в Европе 1930-х годов, – его диссертация «Онтология Гегеля и основание теории историчности» была опубликована в 1932 году. Не менее важно и то, что он опубликовал одно из первых исследований вновь обнаруженных «Экономическо-философских рукописей 1844 года», вернувших из небытия раннего Маркса-гегельянца, которого интересовали отчуждение, товарный фетишизм и овеществление, а неизбежный крах капитализма еще не вытекал у него из научных законов. Маркузе присоединился к Институту в том числе и потому, что понимал, что иные его перспективы получить работу были весьма ограничены: «Я отчаянно хотел присоединиться к Институту из-за политической ситуации. В конце 1932 года было совершенно ясно, что я никогда не смогу получить профессуру при нацистах»{245}. К моменту начала его работы в Институте тот уже переместился в Женеву, чтобы избежать опасности для своей работы и самого существования, исходившей от нацистов.
В 1920-х годах Маркузе учился у Хайдеггера и находился под глубоким влиянием разработанной его учителем критики западной философии, как и его попытки переосмыслить эту философию в мире, где технологическая рациональность взяла верх над повседневной жизнью, отняв у индивида свободу. Однако чтобы разработать критику этого тотально администрируемого общества, признаки возникновения которого он наблюдал повсюду, Маркузе обратился от Хайдеггера к Гегелю, тем более что в 1933 году Хайдеггер стал членом нацистской партии и поэтому не годился в интеллектуальные наставники социалистическому мыслителю Маркузе. Гегель обещал больше. Маркузе рассматривал его не как консервативного философа, но скорее как создателя критики иррациональных форм общественной жизни. Вслед за Гегелем он видел свою интеллектуальную роль в разработке, как говорит Дуглас Келлнер, «критических норм, основанных на рациональном потенциале человеческого счастья и свободы, которые можно было бы использовать для отрицания существующего положения дел, подавляющего индивидов и ограничивающего человеческую свободу и благополучие»{246}.
Но что происходит, с тревогой спрашивает Маркузе в своем очерке 1937 года «Философия и критическая теория», «если не происходит нарисованного теорией развития? Что если силы, которые должны были вызвать эту трансформацию, подавлены и выглядят разгромленными?»{247} Очень уместные вопросы, учитывая, что в тот год Франкфуртская школа была изгнана в другую часть света, силы нацизма казались несокрушимы, а советский марксизм вырождался в сталинистские показательные процессы и ГУЛАГ. Маркузе, что удивительно, не поддался пессимизму.
В 1930-е годы, однако, некоторые из коллег Маркузе по Франкфуртской школе утратили веру в способность критического мышления изменить общество. Хоркхаймер, в частности, перешел от надежды к отчаянию. Десятилетием ранее он как-то писал, что «задача критического теоретика состоит в том, чтобы уменьшить противоречие между собственным прозрением и угнетенным человечеством, в помощь которому тот мыслит»{248}. Проблема заключалась в том, что он не мог ослабить это противоречие, а значит, и мыслить в помощь угнетенному человечеству. К 1937 году Хоркхаймер впадает в отчаяние от того, что «товарная экономика» может положить начало эпохе прогресса до тех пор, пока «после невероятного расширения контроля человека над природой она в конце концов не начинает тормозить дальнейшее развитие, загоняя человечество в новое варварство»{249}.
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Гранд-отель "Бездна". Биография Франкфуртской школы - Стюарт Джеффрис», после закрытия браузера.