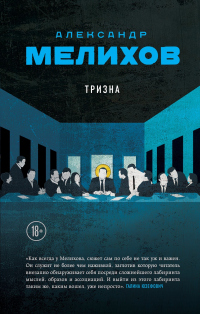Читать книгу "Заземление - Александр Мелихов"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Дегтярная, Мытнинская, проспект Бакунина — никогда-то ему не удавалось добраться до Вроцлавского дома без блужданий. Стоит проложить одну косую улицу там, где все углы воображаются прямыми, и никакого Сусанина не надо. Все равно что уверовать в чужой идеал, — вся жизнь пойдет наперекосяк. А идеалы бывают только чужими.
От досады ему хотелось ускорить шаг, но он сдерживал себя, чтобы не явиться багровым и потным: даже утром в проклятой бороде было уже жарко, натуральная шерсть, как-никак.
Он с первого дня удивлялся, как удается Вроцлаву при его не-от-мира-сегойности находить дорогу домой, особенно в темноте. Прогуливаясь с ним, он всегда испытывал желание поддержать его под руку, чтобы тот куда-нибудь не свалился, и останавливался, только когда вспоминал, что на фронте и в лагере на лесоповале Вроцлав же как-то обходился без его помощи. Хромает — так он уже и в сорок втором хромал. А что задралась штанина — так и пусть ее.
Наконец-то знакомая задрипанная подворотня, почти вертикальная и действительно черная лестница, все та же гроздь звонков с табличками: Егоровы, Кургинян, Глущенко, Вроцлав… Надо же было ухитриться прожить почти век в одной и той же коммуналке, в Европу выбраться, только чтобы взять Берлин, красы природы открыть лишь в концлагере, а в довершение, зная черт-те сколько языков, издав за границей с десяток книг, завоевав в полуподполье международное имя, просидеть до нищенской пенсии на должности библиографа, пересказывая на крошечных карточках чужие сочинения и набравшись каких-то нечеловеческих познаний о нездешних мирах…
Как ни заземляйся, не найдешь других слов, кроме как «величие духа», такое смирение будет и впрямь покруче любой гордыни. Юродивые были не дураки: опуститься ниже всех, чтобы оттуда на всех глядеть свысока; кто унизился сам, того уже не унизишь, он вполне может подставить и другую щеку, и это будет лишь изощренной формой презрения. Позор тому, кто ударит брахмана, но и позор брахману, который прогневается на обидчика, — эту мудрость он тоже узнал от Вроцлава.
Он несколько раз вздохнул, чтобы перевести дыхание и не пыхтеть, когда войдет внутрь. Вроцлав, правда, настолько никогда ничего не изображал сам и не нуждался в чужом притворстве, что довел манеру обращения с собой до полной простоты, граничащей с цинизмом; ему, Савлу, уже и у смертного одра не хочется принимать скорбный вид — Вроцлав же сам проповедовал, что смерть всего лишь слияние малого «я» с большим, — и как же прикажете сострадать тому, кто, по его же словам, вовсе не страдает?
Наконец собрался с силами, позвонил. Не открывали очень долго, но он знал, что Мария Павловна одолеет коридор, только когда уже соберешься уходить.
Ага, надежда, что откроют, начинает иссякать, значит Мария Павловна уже близко. Нет, все еще не слышно лязга исполинского кованого крюка. Коридор-то навряд ли еще больше вытянулся, дальше уже некуда, но Мария-то Павловна за эти годы точно не помолодела…
Ему наконец сделалось по-настоящему стыдно, что он так давно не навещал этот дом, где его настолько тепло принимали. Но как стерпеть, когда благороднейшие и симпатичнейшие люди безостановочно повторяют то, что представляется тебе полнейшей чепухой. Да еще и опасной чепухой. Каково было бы микробиологу часами слушать про то, что болезни приходят не от микробов, а от Бога и что нужно не затевать карантины и делать прививки, а заниматься нравственным самосовершенствованием.
С самим-то Вроцлавом, прогуливаясь, подобно перипатетикам, в косых пространствах окрест Дегтярной и Мытнинской, можно было не церемониться, ничему низменному до него все равно было не достать, он говорил что о политике, что об искусстве так, словно разбирал чьи-то шахматные партии. В политике он в основном видел уход от глубины, а в искусстве, наоборот, погружение в глубину. Но когда ему напомнишь, что наша глубина — это омут, где кишат змеи и крокодилы подсознания, он соглашается: да, на каком-то уровне мы остаемся животными — алчными, тщеславными, мстительными и похотливыми, — но на еще более глубоком уровне в нас все равно присутствует и Божественное начало, иначе представлению о Боге было бы просто неоткуда родиться. А когда ему возразишь, что образ Бога рождается из инфантильного образа отца, он только отрешенно улыбается: лично он отца никогда не видел, тот погиб во время погрома до его рождения.
Впрочем, представления о Боге у разных народов вырастали по-разному, вплоть до того, что буддизм, например, религия и вовсе без бога — и тут действительно раскрывалась неисчерпаемая глубина. Чего только люди не насочиняли о том, чего нет! А Вроцлав знал все.
Мало того, что он знал всех Иоаннов Златоустов и Ефремов Сиринов, этим Савла после Вишневецкого было не удивить, тем более что святых и блаженных, подвижников и постников даже Лаэрт любил подпускать, но Вроцлав знал все и про всех суфиев, шиитов и суннитов, Абу Бекров и Абу Талибов, он знал все про Индру и Сурью, Агни и Сому, про всех Варун и Ригвед и, ничуть не рисуясь, с такой легкостью выговаривал слова Брахманаспати и Чхандогья-упанишада, что даже безбожник Савл их усвоил, — и везде-то Вроцлав находил своих предтеч, которые верили без догматов и поклонений. Блаженный Августин учил: возлюби Бога и делай что хочешь. Аль Халадж говорил, что вместо паломничества в Мекку можно обойти вокруг него, — в нем тоже есть Бог. За что его публично бичевали, отрубили руки, повесили вниз головой, побили камнями, отрубили голову, а тело сожгли, чтобы он не мог воскреснуть и в день Страшного суда.
Чудеса Вроцлава тоже не интересовали, все их следовало понимать иносказательно. И его предтечи это понимали. Какому-то суфию Аллах предложил: проси у меня, что хочешь, — и тот ответил: с меня довольно того, что Ты есть. Вроцлаву этот суфий был явно близок. А еще какой-то не то даосист, не то дзен-буддист — никак было не запомнить, кто из них кто — ликовал: какое чудо, я таскаю воду, я подношу дрова! Когда-де возвысишься до глубины, вся жизнь превращается в чудо.
У Вроцлава на Дальнем Востоке было явно больше древних друзей, чем на Ближнем, он о них говорил так часто, что Савелий понемногу запомнил их ужасные имена. Когда погаснут солнце, луна и огонь, когда умолкнет речь, светить человеку будет Атман, говорит мудрец царю, а Атман состоит из познания, пребывает среди чувств и светит внутри сердца; он не постигается ни толкованием, ни разумом, ни тщательным изучением, он постигается лишь теми, кого изберет он сам.
Самые мудрые не привязывались к телесности даже для того, чтобы ее умерщвлять, — плоть не стоила таких усилий. Гаутама занимался этим целых шесть лет, пока не научился кормиться одним конопляным семечком в день и с утра до вечера сидеть, прижавши язык к нёбу, стараясь не думать о суетном. А потом вдруг понял, что и это суета сует, и перешел в состояние татхаты, а сам сделался татхагатой — постигнувшим подлинность. Которую не может принести никакой авторитет — только собственная глубина: будьте сами себе светильниками, только сам человек может и осквернить, и очистить себя. А существуют ли боги, бессмертен ли просветленный — на эти вопросы Будда отвечал благородным молчанием. А иногда вместо ответа с улыбкой показывал ученикам цветок. Хотя иногда снисходил и до разъяснений: все, что я вам рассказал, это горсть листьев в сравнении с листвой целого леса.
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Заземление - Александр Мелихов», после закрытия браузера.