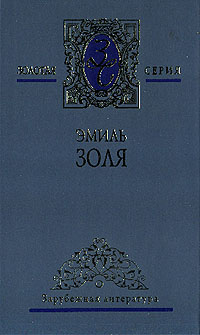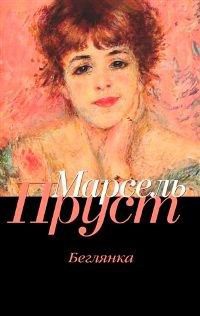Читать книгу "Время должно остановиться - Олдос Хаксли"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– Вот это место, – сказал он.
Миссис Гэмбл отпустила его руку и, продолжая держать собачку, медленно побрела вперед. Ее рука коснулась раковины умывальника; она открыла кран и снова закрыла. Потом продолжила движение, нашла унитаз и нажала на смыв. Фокси разразился лаем.
– Какой римский император? – спросила она, перекрывая голосом тявканье и шум воды. – Кто из них расстался с жизнью в туалете? Марк Аврелий или Юлий Цезарь?
– По-моему, это был Веспасиан, – отважился поправить ее спутник.
– Веспасиан? Я о таком даже не слышала, – сказала Королева-мать с подчеркнутым пренебрежением. – Здесь пахнет дымом сигары, – добавила она. – Я всегда говорила ему, что он выкуривает слишком много сигар. Подай мне руку снова.
Они вернулись тем же путем через большой холл в гостиную.
– Вероника, – сказала миссис Гэмбл, обращаясь наугад в темноту, которой был объят весь ее мир. – Ты уже пробовала снова звонить той невыносимой женщине?
– Еще нет, миссис Гэмбл.
– Интересно, почему она не ответила на первый звонок? – В голосе старухи раздражение смешалось с тревогой.
– Ее не было дома, – спокойно ответила миссис Твейл. – Вероятно, она участвовала в другом сеансе.
– Никто не устраивает сеансов в девять часов утра. И ей следовало бы иметь прислугу, которая отвечала бы на звонки в ее отсутствие.
– Возможно, прислуга ей не по карману.
– Чепуха! – пролаяла Королева-мать. – Никогда не встречала хорошего медиума, который не мог бы позволить себе завести служанку. Особенно во Флоренции, где им можно платить сущие гроши. Позвони ей еще раз, Вероника. Звони каждый час, пока не дозвонишься. А теперь, мальчик, я хотела бы немного прогуляться вдоль террасы, и чтобы ты рассказывал мне о поэзии. С чего ты, например, начинаешь каждое новое стихотворение?
– Как вам сказать, – начал Себастьян. – Обычно я… – Он осекся. – Это довольно трудно объяснить.
Повернувшись, он одарил ее одной из своих неотразимых ангельских улыбок.
– Что за вздор! – воскликнула Королева-мать. – Это может быть трудно, но, конечно же, возможно.
Слишком поздно вспомнив, что она не в состоянии оценить его улыбки, и почувствовав себя глупцом, Себастьян расслабил мышцы лица, придав ему серьезное выражение.
– Ну, я слушаю. Рассказывай! – скомандовала старая леди.
Он запинался, но старался, как только мог:
– Это подобно тому, словно вам… Я хотел сказать, словно вы вдруг что-то слышите. А затем оно начинает разрастаться само, понимаете, как кристалл в перенасыщенном растворе.
– В чем?
– В перенасыщенном растворе.
– А это еще что такое?
– О, это… Это среда, в которой выращивают кристаллы. Но если честно, – поспешил добавить он, – то метафора не совсем точная. Скорее уместнее сравнение с цветком, который вырастает из семени. Или даже со скульптурой. Добавляете понемногу глины, пока не получается статуя. А еще лучше представить себе…
Но Королева-мать оборвала его.
– Не понимаю ни слова из того, что ты говоришь, – прохрипела она. – Ты мямлишь что-то совсем уж невнятное.
– Мне очень жаль, – пробормотал он едва слышно.
– Я распоряжусь, чтобы Вероника занималась с тобой разговорным английским каждый день после обеда, пока я сама отдыхаю. А теперь попробуй начать про свою поэзию заново.
«Назад и вниз», смех и сигара. Очень долго ничего больше не было. Только этим из своего существа он и владел; всеми остатками своей личности, которые смог собрать. Ничего, кроме оставшихся в памяти трех слов, внезапного ощущения торжества и обмусоленного цилиндра из табака. Но этого хватало. Знание приносило радость и придавало уверенности.
А между тем на периферии сознания оставалось все то же свечение, но только внезапно, между двумя воспоминаниями, он понял, что оно несколько изменилось.
Поначалу яркий свет лился отовсюду и везде был одинаковым. Сияющая тишина. Беспредельная и равномерная. И в целом свет по-прежнему выглядел безупречным, а источник его неясным. Но в то же время складывалось впечатление, что, оставаясь таким же, каким было всегда, это безмятежное, не знающее границ блаженство и знание вдруг стали сдерживаться проникновением в него какой-то активности. Но активности, имевшей ту же структуру, подобие живой решетки в пространстве – повсеместной, бесконечно сложной, необычайно хрупкой. Безразмерная, во всю ширь раскинутая паутина, то сплетающаяся в узлы, то расходящаяся, состоящая из параллелей и спиралей, причудливых фигур и их странным образом искаженных проекций. Но все это сияло, двигалось, жило.
И снова единственный фрагмент своего существа вернулся к нему – все тот же, но теперь неким образом связанный с определенной фигурой в той яркой, тончайшим образом сплетенной решетке, нашедший определенное место на одном из бесчисленных уплотненных наростов паутины непрерывно пересекающегося движения.
«Назад и вниз», а потом неожиданный торжествующий смех.
Но эта структурная часть переплетения оказалась проекцией другой, где он вдруг нашел еще один, но более крупный фрагмент своей личности – и это тоже было воспоминание: образ маленького мальчика, пытающегося выбраться из канавы с водой, до колен промокшего и покрытого грязью. «Попался, Джон, попался!» – в воспоминании кричал он сам, а когда мальчик сказал: «Прыгай тоже, ты, трус несчастный», он снова крикнул: «Попался!» – и залился смехом.
Этот смех вернул сначала сигару, всю обслюнявленную, а еще ближе к центру необъятной решетки – память об ощущении большого пальца между губами, об удовольствии долгого сидения на унитазе за чтением «Журнала для мальчиков» и сладости торчащего во рту длинного лакричного леденца.
А стоило переместиться от проекции к проектору, как возник крупный образ существа из крепкой плоти, пропахшего дезинфицирующим мылом. И когда у него ничего не получилось на ночном горшке, фрейлейн Анна уложила его себе на колени и дважды отшлепала по попке, оставив затем лицом вниз на скамье, пока ходила за Spritze. Да, за Spritze, за Spritze… Только у этого было другое, английское название, потому что мама сама доставляла ему болезненно-приятное ощущение, когда ставила клизму. И когда такое происходило, то преобладал запах не дезинфекции, а фиалкового корня. И хотя он, конечно, мог бы при желании все сделать на горшке, все равно не делал… Ради этого мучительного удовольствия.
Линии света жизни рассеялись, чтобы затем сойтись в другой узел, и теперь это были не фрейлейн Анна и не мама. Возник образ Мими. Spicciati, Bebino! И в приливе радостных эмоций он вспомнил халатик цвета красного вина, тепло и упругость кожи под покровом шелка.
Сквозь щели в решетке он различал и другой аспект сияния света – полную и равнодушную тишину, красоту во всей аскетической простоте, но все равно такую манящую, желанную, неотразимо привлекательную.
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Время должно остановиться - Олдос Хаксли», после закрытия браузера.