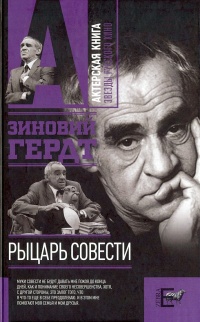Читать книгу "Компромисс между жизнью и смертью. Сергей Довлатов в Таллине и другие встречи - Елена Скульская"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Блистательны были разработки, касавшиеся Воланда и его свиты, связанные с историей религии… Неожиданно он оборвал рассказ на полуслове и добавил как-то рассеянно:
– А может быть, главная загадка «Мастера и Маргариты» в том, почему Мастер не заслужил Света, а заслужил только Покой?
С необдуманной бойкостью я тут же предложила:
– Да потому, что Мастер попросту струсил.
Эйдельман усмехнулся:
– Конечно, в Мастере много от автора, от свободного Булгакова, написавшего все-таки «Батум», качнувшегося однажды в сторону Сталина. Но смелость и трусость в тридцатых годах были совсем иными, чем вам кажется сегодня.
Встреча в Союзе писателей закончилась, и мы большой компанией отправились гулять по городу. Лучшие знатоки старого Тбилиси пытались блеснуть перед Натаном Яковлевичем редкими сведениями, но это оказалось совершенно невозможным – он сам указывал на дома и улочки, о которых знал удивительные новеллы, находил чутьем места, где никогда не был, привел нас к домику, где жил Лермонтов, очертил в городе XIX век, а потом заторопился – он непременно хотел побывать в серных банях и проверить точность Тынянова, описавшего в «Смерти Вазир-Мухтара» то, что испытал Грибоедов, попав в руки опытного тёрщика.
На прощание Эйдельман подарил моей дочке свою книгу «Прекрасен наш союз…». «Она о школьниках, об истории одного класса, в котором учились Пушкин, Дельвиг, Кюхельбекер и другие замечательные ребята», – добавил он, вручая томик семикласснице.
Потом мы неоднократно виделись в Пицунде, в Доме творчества писателей. У Эйдельмана особенно всем нравилось собираться. Юля каким-то загадочным образом устраивала в казенном гостиничном номере филиал их московской квартиры: накрывались роскошные столы, где с кавказской зеленью, мясом и вином соперничали московские кулинарные достижения. Потчуя гостей, Юля, однако, просила самого Натана Яковлевича, склонного к полноте, есть поменьше.
– Нет уж, дорогая. Как говаривал Крылов, «Я только в тот день не поужинаю, когда уж и не отобедаю». А, кстати, – добавил он, – вы знаете, ведь дедушка Крылов видел восстание декабристов. Да-да, проезжал в коляске мимо, поинтересовался, что происходит, махнул рукой и поехал дальше.
И Натан Яковлевич изображал Крылова – язвительного, ироничного, с некоторым восторгом подражая его стилю речи.
Продолжалось застолье, а когда Юлия опять что-то шепнула про злоупотребление едой, Натан Яковлевич так же тихо что-то ответил ей и неожиданно для собравшихся добавил громко:
– И потом мне ведь так мало осталось – я не переживу шестидесятилетия. Я знаю точно.
Все загомонили, протестуя, но так оно и случилось.
Натан Яковлевич говорил в тот вечер:
– В истории, как и в литературе, всегда два пласта: есть вещи, принадлежащие только тому или иному времени, – например крепостное право, – а есть вещи вечные. Задача историка – наложить историческую сетку на общечеловеческую и сделать свои выводы. Если в нас нет ничего из прошлого, то прошлое нас не интересует. А если мы полностью повторяем прошлое, то это уже не история, а аллегория. Мы часто декларируем необходимость учиться у природы. Замечательно, конечно, наблюдать за животными и растениями, но есть примеры и поближе – если мы хотим знать, как жить, куда идти, то нужно учиться у истории…
В одну из московских встреч Эйдельман рассказал, что побывал на уроке истории в средней школе:
– У них по стенам, как положено, висят портреты великих деятелей прошлого, писателей-гуманистов, всеми силами приближавших Отечество к нынешнему дню. Восемнадцать портретов. И только четверо: Белинский, Чернышевский, Чехов, Горький – не дворяне. Интересно, что об этом думают учителя? Что они говорят ученикам о социальном происхождении «буревестников» революции?
Беда наша в том, что укоренился знак равенства между протестом, сопротивлением и революционным призывом. Вся великая русская литература – литература протеста. И вся она, провидя неминуемый взрыв, бунт, отшатывается от крови и террора.
Страстен был протест Радищева. Предсказание неминуемой ломки. И – трагический финал – самоубийство после разразившегося кровавого террора Французской революции.
Пушкин писал оду «Вольность», но он же называл русский бунт «бессмысленным и беспощадным».
Достоевский говорил: «Стань свободным, и других свободными сделаешь». И он написал «Бесов».
Достоевский… Толстой… Герцен – разные, принципиально разные, но сходные в триединстве протеста, сопротивления, предвидения революции и отшатывания от нее.
Русская литература – учебник свободы, но прежде всего – свободы внутренней, без которой внешняя – насмешка. Ее можно сравнить разве что с навязыванием парламента примитивным дикарям.
Русская литература всегда на стороне гонимых, всегда она отстаивала вольность личности перед государством. В «Медном всаднике», казалось бы, Петр торжествует. Но он назван кумиром «на бронзовом коне». А кумир по тем временам – слово оскорбительное, то есть идол. Николай был возмущен и запретил «Медного всадника».
Чехов говорил: «Прокуроров много, а вот адвокатов не хватает»…
Лидия Корнеевна Чуковская как-то замечательно все это сформулировала: когда писатели клеймили во время очередной кампании своих товарищей, она сказала: «Вы нарушаете лучшую традицию всей нашей литературы – всегда защищать гонимых».
И опять все по кругу приходит к понятию внутренней свободы.
Мне нравится максима Анатолия Стреляного: «Без свободы нет ответственности. Без ответственности нет морали. Без морали нет человека. Без человека нет народа».
Натан Эйдельман говорил, что в Советском Союзе неважно обстоят дела со свободой на душу населения, кажется, еще хуже, чем с ситцем и зерновыми… Почти никто не знал, что много лет он собирал документальные свидетельства и более или менее достоверные рассказы современников о сталинской эпохе. Эти материалы он называл «Заметками о нравственности», надеялся, что когда-нибудь он их опубликует… Он умер раньше, чем это стало возможным… Но четыре новеллы сохранились, он прислал мне их в одном из писем. Вот они.
СЛАДОСТНАЯ БОЛЬ
Знаменитый критик и писатель Аркадий Белинков рассказывал, что, приговоренный к расстрелу, он ждал более двух месяцев решения своей участи в камере смертников. Однажды ночью его повели, как он думал, на казнь, но вдруг появился хорошо знакомый мучитель-следователь и начал избивать Белинкова. После первого же удара Белинков понял, что расстрел отменяется, ибо вряд ли в этом случае стали бы так бить. Каждый удар следователя стоил Белинкову крови, зубов, но он совершенно не чувствовал боли и только повторял себе: «Жив! Жив!» Избивавший, грязно ругаясь, подтвердил, что заключенный останется жить, но добавил, что тому придется ответить на разные вопросы; однако все это было второстепенно: Белинков помнил, что удары казались ему сладостными и ободряющими: значит, жив! Вскоре после того он получил сравнительно короткий тюремный срок, позже, впрочем, увеличенный…
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Компромисс между жизнью и смертью. Сергей Довлатов в Таллине и другие встречи - Елена Скульская», после закрытия браузера.