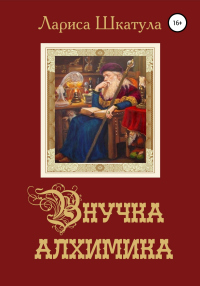Читать книгу "Заговор адмирала - Михель Гавен"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Маренн приняла его — куда деваться? К тому же всё то, что она чувствовала к Отто, — всё оставалось и жило в её душе. Маренн и он были крепко связаны множеством нитей, поэтому она понимала — если порвать эти нити, то ему будет больно, а ей — в десять раз больней. Однако существующее положение не могло её устраивать. Надо было либо разойтись, либо положить конец всем побочным связям, в том числе политическим.
Наверное, Скорцени был готов отказаться от других женщин — или думал, что готов, — иначе зачем сейчас приехал, но от своих карьерных устремлений и от преданности фюреру не отказался бы никогда. Маренн не могла с этим смириться, ведь, несмотря на свой пост главного хирурга СС, она никогда не служила Гитлеру. Она служила людям, которых спасала, а вот Скорцени, профессиональный диверсант, специалист по захватам и похищениям, по большей части убивал, а не спасал, и в этом было главное противоречие, не дававшее ей помириться с Отто по-настоящему.
Маренн могла бы принять то, что он изменял ей с родной сестрой Евы Браун, но вот оправданий вроде: «Ты же понимаешь, это только для карьеры», — она никогда понимать не желала. Дело было в этой самой карьере — в стремлении служить фюреру. Интрижку на стороне можно было простить, но то, что Скорцени искреннее стремился реализовать сумасшедшие гитлеровские идеи, жертвами которых чуть не стала сама Маренн, — забыть это и сбросить со счетов было нельзя. Вот что теперь мешало ей искренне прошептать слово, которое она шептала сотню раз прежде — «люблю».
Наверное, графиня Илона была права, когда говорила: «Он любит вас, но при этом служит вашим врагам? Я это плохо представляю». Маренн тоже плохо представляла, как такие вещи могут сочетаться, поэтому сохраняла к Отто недоверие. Вполне обоснованное недоверие, глубокое недоверие, которое поселил в памяти Маренн очень неприятный, пугающий образ. Этот образ не имел ничего общего с хорошеньким кукольным личиком Гретель Браун. Нет, не оно часто вставало перед глазами у Маренн, хотя она и знала, что Гретти опять ждёт ребенка, который вполне мог оказаться ребенком Отто. С банальной изменой вполне можно было бы примириться и забыть, хотя и остался бы неприятный осадок.
То, чего невозможно было забыть, случилось в декабре сорок первого, в России, в сожженной подмосковной деревеньке. Маренн навсегда запомнила обуглившийся дом, в котором по приказу Отто были заживо сожжены трое пленных русских солдат, а с ними — два десятка мирных жителей, в том числе дети. Якобы за то, что они укрывали партизан. В этом не было никакой необходимости, и Маренн умоляла Отто оставить этих людей живыми, тем более что красные уже начали наступление.
Скорцени намеренно не послушал её и заставил смотреть на мучения обреченных, на страх, беспомощность, на отчаяние. А перед этим всего-то за час или два он вот так же любил её, как в Гёдёллё на этой императорской постели — со страстью, с нежностью, самозабвением. И это не помешало ему причинить ей боль, по силе сравнимую лишь с той, которую она испытала в юности, когда её приемный отец приказал французским артиллеристам стрелять в тех, кто под влиянием «пропаганды красных» вышел из окопов и братался с вражескими солдатами. Отец прекрасно знал, что среди братавшихся был тот, кого она любила — английский лейтенант Генри Мэгон, художник, повеса, миллионер.
Маренн так же умоляла отца не делать этого. И не было даже Гизеллы, которая могла бы поддержать её усилия — австрийская бонна к тому времени уже умерла — но вряд ли послушал бы Гизеллу маршал Франции Фердинанд Фош, как не послушал и свою приемную дочь, которую искренне любил.
На карту была поставлена судьба Франции, и маршал сделал выбор — он принес свои чувства в жертву Франции и осознанно пошел на то, что предал доверие юной девушки, своей воспитанницы, для которой был всем, почти что Богом. Фош отдал приказ ради того, чтобы Франция победила в войне, но сам не смог пережить своего выбора, тяжёлого выбора — вскоре после окончания войны маршал заболел, и ему становилось всё хуже и хуже, пока он не умер.
Никакая слава, никакие сравнения с Бонапартом не облегчили отцу чувство вины перед приёмной дочерью, но и раскаяться тот не мог. Об этом Маренн узнала от священника из собора Нотр-Дам — священника, принимавшего у знаменитого маршала последнюю исповедь. «Я совершил зло, в котором не могу раскаяться, — признался Фош на смертном одре, — потому что оно угодно моей стране, а я поклялся ей служить». Маренн поняла отца, со временем поняла всё. Да, он не мог раскаяться в том, что принес славу Франции. Но какой чудовищной ценой!
А вот Скорцени в то злосчастное морозное утро на Восточном фронте не был связан клятвой или служебным долгом. Отто не получал приказов и сжёг людей просто потому, что Маренн просила не делать этого — только для того, чтобы показать, какую власть он имеет над человеческой жизнью; только для того, чтобы Маренн понимала, что и над ней он тоже имеет власть. Вот этого принять было невозможно. В этом и проявилось предательство со стороны Отто, предательство того доверия, которое питала к нему Маренн — очевидное желание манипулировать её чувством к нему, стать ей хозяином. И с этим нельзя было смириться.
После того случая даже любовь с Отто, которая прежде доставляла столько наслаждения, приносила ощущение полёта и невероятной свободы от условностей, теперь стала совсем другой. Маренн воспринимала всё это, как средство, которым Отто пользовался, чтобы доминировать над любимой женщиной, подчинять её и подавлять. Даже непрекращающийся роман с Гретель Браун, объясняемый желанием побыстрее устроить карьеру, Маренн теперь трактовала иначе — как намерение Отто, возможно и неосознанное, постоянно держать её, Маренн, «на поводке», в напряжении, в боязни быть заменённой.
Ситуация лишь усугубилась осенью сорок третьего года, когда Скорцени сумел освободить Муссолини, арестованного итальянцами, и привезти к фюреру. Вот тогда Отто узнал настоящую славу — кто только ни восхвалял его, начиная от впечатлительных юных дам вроде племянницы Шахта, и заканчивая самим фюрером, который был очень доволен. Всё это, несомненно, вскружило голову Отто, сделало тщеславным, и Маренн немедленно почувствовала произошедшие изменения на себе. Слава, всеобщее почитание оказались для Скорцени привлекательнее, чем сама Маренн, которая ещё недавно была самой долгожданной, самой радостной его наградой.
Приёмный отец Маренн в своё время променял её на Францию, и пусть дочь не смогла простить его сразу, но со временем простила. А вот Скорцени променял Маренн даже не на славу — потому что все его мелкие подвиги не могли сравниться со славой маршала Фоша — Отто стал ценить любимую женщину меньше, чем он ценил одобрение так называемой «элиты рейха». Её и элитой-то назвать было сложно!
Маренн понимала, что рано или поздно Отто изменит ей — уж больно много женского внимания сосредоточилось вокруг него — и она не дала ему возможности сделать это первым. Почувствовав, что его предательство неизбежно, Маренн сама сделала первый шаг — ответила на чувства Вальтера, приехала к нему в Гедесберг и провела с ним ночь, хотя знала, что Скорцени ждет её дома.
Зачем? Она и сама толком не понимала своих мотивов. Испугалась, что те женщины, которые стаями окружали Отто, намного моложе? Да. Испугалась оказаться брошенной? Да, ведь как раз накануне, после гибели Штефана, когда Скорцени в тысячный раз завел с ней разговор о том, что желал более всего, об их общем ребенке, она ответила, что Штефан был её единственным сыном, и другого быть не может. Маренн лишь после осознала, что любая женщина или девица из тех, которые теперь окружали Отто и восхищались им, легко могла воплотить это его желание, причём с радостью.
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Заговор адмирала - Михель Гавен», после закрытия браузера.