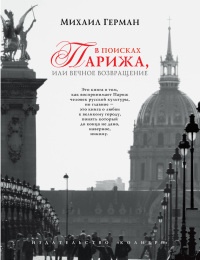Читать книгу "Брисбен - Евгений Водолазкин"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– Ей неловко! – Анна хватает бокал с соком и запускает в Веру. – Она хочет его у меня увести!
Бокал попадает Вере в плечо и разбивается об пол. На лицах сидящих желтеют капли сока. Ника снимает с носа апельсиновые волокна. Сохраняя самообладание, улыбается: сок свежевыжатый, не концентрат. Рука Анны тянется к бутылке с водой, но бутылку успевает перехватить Катя. Через мгновение мы с Нестором держим Анну за руки.
Она вырывается и визжит. Нестор кричит, что Анну нужно связать, но никто не знает, как это делается. Из кухни приносят моток веревки и начинают его разматывать. Катя протестует: веревка может пережать сосуды. Исчезает на мгновение и возвращается с парой моих брючных ремней. Я пытаюсь стянуть ими руки Анны, но больная сопротивляется с неожиданной силой.
На помощь приходит официант. Приказав мужчинам крепко держать Анну, он быстро связывает ей руки и ноги и укладывает на ковре. Оставленная в покое, Анна замолкает. Снизу вверх немигающе смотрит на стоящих. Все выдыхают. Обращение официанта с ремнями Ника уважительно называет искусством. Тот с готовностью поясняет, что этим искусством он овладел в полиции, где служил до ресторана. Он – единственный, кто сохраняет присутствие духа. Спрашивает, когда подавать сладкое. От сладкого отказываются все, кроме Анны. Она не против. С официантом прощаются, заплатив ему за дополнительные услуги.
Звоню лечащему врачу Анны, но он не отвечает. Посовещавшись, вызываем скорую. Приехавшая бригада делает Анне укол и переносит ее в спальню. Когда Анна засыпает, ее развязывают. Спать она должна вроде бы до утра, но за ней нужно постоянно следить.
Звонит лечащий врач: он обнаружил пропущенный звонок. Буянила? Что ж, весьма прискорбно. Он ведь предупреждал, что этим может кончиться, и, если бы не личная просьба Глеба Федоровича, он бы никогда… Сейчас больную беспокоить не нужно, а утром он приедет за ней с санитарами.
Ника уезжает домой, а Нестор – на случай непредвиденной ситуации – остается дежурить со мной в спальне.
– Знаешь, Нестор, отчего мне плохо? – Я разливаю по бокалам виски. – От безнадеги.
Анна стонет, не открывая глаз.
– Дети, в школу собирайтесь… Вера, подъем!
Перехожу на шепот.
– Помню, лет в десять исполнилась моя мечта: мне купили радиоприемник. Дешевый, плохонький, но как я был счастлив! И вот, этот самый приемник упал со шкафа и разбился. Так бывает с мечтами. Мы с бабушкой отнесли его в мастерскую. Я почему-то твердо верил, что приемник починят – не так уж безнадежно он выглядел. Но мастер повертел его в руках и сказал: ремонту не подлежит. Я сначала этих слов даже не понял. Спросил: а что же делать? Он пожал плечами: выбросить. Этот тип еще объяснял, какие именно детали там сломались, а я уже бился в истерике…
– Дети, в школу собирайтесь! – командует Анна во сне.
Мы с Нестором молча чокаемся.
– Даже сейчас, когда я вспоминаю эту историю, самым страшным для меня остается та дурацкая фраза: ремонту не подлежит. Скажи он как-то попроще – не могу, мол, починить или, там, еще что-нибудь, – было бы легче. Но в этой фразе была полная бесповоротность: и то, что приемника мне теперь не слушать, и то, что на новый денег нет. Вот эта фраза звучит у меня в голове сейчас. Твое тело, сказали мне, ремонту не подлежит. Не сказали: выброси, но это же понятно. И надежде зацепиться – ну просто не за что!
– Глеб, дорогой, к счастью, ты не совсем прав. Сейчас твой приемник не разбился. Да, он работает хуже, но работает.
– И будет работать всё хуже, пока не заглохнет…
Анна открывает глаза.
– Бегемот пропел давно… Пу-пу-пу-пу. – Глаза Анны закрываются. – Басовая труба.
– Бывает совсем плохо. – Нестор кивает на Анну. – Сравни.
– Слабое утешение…
Поправляю сползшее с Анны одеяло. Она садится на кровати. Волосы всклокочены, взгляд блуждает.
– Дети, в школу… Вера, где ты, девочка? Бегемот… – Дирижирует. – Пу-пу-пу-пу. Четыре четверти.
Ложится и засыпает.
Дремлет уже и Нестор.
А я пишу.
После ареста Бергамота Глеб и Катя пробыли в Киеве еще несколько недель. Не могли понять, что им делать дальше. Возвращаться в Питер не хотелось: было ясно, что этот этап жизни окончен. Дело решилось само собой, когда солнечным январским утром в дверь позвонили судебные приставы. Потребовали в течение часа освободить квартиру, которая уходила с молотка в счет погашения долгов Бергамота. Приставы придирчиво следили за тем, как Глеб и Катя упаковывали вещи, но позволили взять всё. Возможно, они не рассчитывали на то, что контроль над территорией получат так легко. Часа через два груженое такси отчалило от Бергамотова дома. Ночь Глеб с Катей провели в гостинице, а на следующий день (у Глеба уже была немецкая виза) выехали на поезде в Берлин. Поезд, а не самолет был выбран из-за большого количества вещей. Что до решения ехать в Германию, то оно – о чем, собственно, свидетельствовала и виза – не было внезапным. Такое развитие событий не исключалось, хотя и не сказать, чтобы Яновские как-то его приближали. Глеба, а в особенности – Катю посещала мысль о том, что в Берлине могут возникнуть свои сложности. Но ни Глеб, ни даже Катя не предвидели степени этих сложностей. Начались они уже на берлинском вокзале: Катины родители там не появились. Эту невстречу Катя вяло пыталась объяснить, хотя обоим всё уже было ясно. О Катиных родителях они никогда не говорили, но Глеб понимал: то, что Катя никогда не приглашала его с собой в Берлин, не случайно. С новыми родственниками Глеб познакомился в дверях квартиры на Винеташтрассе. С зятем они поздоровались без особой радости, а затем молча наблюдали, как Катя и Глеб носили из грузового такси вещи. Катя, казалось, не замечала холодного приема. Она улыбалась своей обезоруживающей улыбкой и рассказывала, как непросто было убедить таможенников, что они с Глебом не контрабандисты. Никого она не обезоружила. Родители продолжали стоять с каменными лицами, и история про таможенников их не рассмешила. Ее и не было. Глеб испытывал к жене пронзительную жалость. И любовь. Катина мать что-то быстро у Глеба спросила. Ему показалось, что даже слишком быстро. Проверяла, что ли, его немецкий? Катя, видя Глебово замешательство, тут же перевела: мама интересуется, чем бы ты хотел в Германии заняться. Вот ты, например, можешь быть переводчицей при муже, впервые улыбнулся Гертнер-отец. Если, конечно, кто-то будет платить тебе за это зарплату. А чем будет заниматься он? Нет пока в Германии такой профессии – ворон считать. Глеб задумался было над ответом, но понял, что ответа никто не ждет. На него больше не обращали внимания, дальше беседа продолжалась между супругами Гертнер. С первыми звуками телевизионных новостей они скрылись в гостиной и больше в этот вечер не показывались. Лишь перед сном Глеб столкнулся с фрау Гертнер у туалета, и та что-то быстро ему сказала. Глеб опять не понял – она безнадежно махнула рукой. Когда Глеб позвал Катю, Гертнерша отчетливо произнесла, что у Кати теперь и в самом деле отличное занятие – оказывать Глебу услуги переводчика. Кроме, конечно, всех прочих услуг. Катя вспыхнула, а Глеб сделал вывод, что теща умеет, оказывается, говорить внятно. Это происходит тогда, когда она хочет, чтобы ее услышали. Катя спросила, что именно ее мать хотела сообщить Глебу, но та уже и сама этого не помнила. Фрау Гертнер ушла в свою комнату (спали родители раздельно), а Глеб и Катя – в свою, прежде Катину. Это была маленькая комната, в которой стояли шкаф, письменный стол и Катина детская кровать, на которой Глебу было не поместиться. Для него Катя нашла в кладовке раскладушку. Прежде чем лечь спать, они съели по шоколадному батончику. Батончики Катя, к молчаливому удивлению Глеба, купила на вокзале. Теперь ему было ясно: его жена знала, что они могут пригодиться. Затем разложили раскладушку. Кое-как Глеб улегся на нее, но сон не приходил. По сдерживаемым Катиным вздохам понимал, что не спит и она. Жалость к жене перешла в нежность. Под визг пружин (а задумывалось неслышно) Глеб встал с раскладушки и оперся коленом о Катину кровать. Лечь рядом оказалось и в самом деле сложно: руку и ногу ему пришлось забросить на Катю. Потерпи моих родителей, прошептала Катя, хотя ничего кроме отвращения они не вызывают. Глеб приблизил свои губы к Катиным: я не испытываю к ним отвращения, потому что они родили тебя. Катя обвила руками его шею. Я тебе рожу кого-то получше, обними меня… Когда утром они вышли из комнаты, Катины родители завтракали на кухне. Сказали, что минут через пятнадцать закончат, и тогда Катя с Глебом смогут позавтракать. Сообщили также, что для этого завтрака они могут взять продукты из холодильника, в дальнейшем же всё должны покупать себе отдельно. В холодильнике им выделялась особая полка. Катя хотела тут же идти в магазин, но Глеб незаметно сжал ее руку: не обостряй. Катя не обостряла. Всё и так уже было достаточно остро. Глеб видел, как порой дрожат ее губы. Она испытывала обиду и стыд одновременно. Ничего хорошего от этого приезда не ждала, так что обида ее была скорее гневом, но стыд оставался стыдом, потому что всё разворачивалось на глазах у Глеба. Они погрузились в безвоздушное пространство. Глоток воздуха появился вечером в лице дяди Курта. Дядей он приходился, в сущности, только одному человеку – отцу Кати. Это был брат его покойного отца. Дядя Курт, носивший ту же фамилию, что и племянник, был, по словам Кати, его полной противоположностью. То, что она определила отца как племянника дяди Курта, от Глеба не ускользнуло. Наблюдая за отношениями в семье, он понял, что из всех Гертнеров Катя любила только этого старика. Тот явился без приглашения. Точнее, приглашение последовало после того, как он сказал, что придет посмотреть на Катю и ее мужа. Курт Гертнер был известным художником, его картины стоили дорого, и он был одинок. Это были три причины, которые, по мнению Кати, заставляли ее родителей с ним считаться. Они часто гадали, каким будет его завещание, и в общении с ним проявляли на всякий случай лучшие свои качества. Впрочем, дядя Курт был не похож на того, кто собирается умирать в ближайшее время. Это был высокий статный старик, напоминавший Хемингуэя. Обняв Катю (она повисла на его шее), крепко пожал руку Глеба. Спросил: как идет, тавариш? Отлично идет, ответил Глеб и похвалил его русский язык. Хорошая школа, сказала (вздох сочувствия) фрау Гертнер. Хорошая, подтвердил дядя Курт и добавил, что у него о России наилучшие воспоминания. Катя, улыбаясь, пояснила, что дядя Курт провел несколько лет в русском плену. Дядя кивнул с серьезным выражением лица и заметил, что плен – не самый плохой путь для изучения страны. Это был, возможно, не курорт (он подмигнул Глебу), но полученный опыт дал ему закалку на всю жизнь. И понимание жизни. Дядя Курт любил Булгакова и Тарковского и – что для Глеба было самым важным – в свое время поддержал решение Кати учиться в России. Когда стали готовиться к ужину, Катя спросила у матери, нужно ли им с Глебом готовить что-то отдельно, но фрау Гертнер ответила, что, конечно, не нужно. Засмеялась. Покраснела. У нас есть свои семейные шутки, улыбнулся дядя Курт Глебу. У всякой семьи есть шутки (Глеб улыбнулся в ответ), это нормально. Катя пожала плечами: наши – немного странные. Она явно шла в атаку, но дядя Курт внес умиротворение: пусть Глеб привыкает, он ведь теперь тоже член нашей семьи. За семью провозгласил тост и за ужином. Посетовал, что далеко сейчас Катина сестра Барбара. Вырвалась отсюда, бедная, шепнула Глебу Катя, учится на врача в Манчестере. Перед уходом дяде Курту понадобилось посекретничать с юной парой, и они зашли в Катину комнату. Лицо старика было грустным. Смываться вам отсюда нужно, сказал он неожиданно, эти птицеловы у вас все перья выщиплют. Катя отвернулась. Дядя Курт погладил ее по голове: постараюсь что-нибудь придумать. А пока (достав пухлый конверт, вручил его Глебу) возьмите мой свадебный подарок. Как это у Чехова? Цветы запоздалые…
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Брисбен - Евгений Водолазкин», после закрытия браузера.