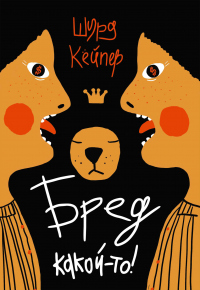Читать книгу "Догадки - Вячеслав Пьецух"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Между прочим, пример краткосрочного правления верховников с сугубой наглядностью свидетельствует о том, что каждый из режимов восемнадцатого столетия, едва вылупившись из предыдущего, уже нес в себе самоубийственную бациллу, как новорожденный – смертный ген, и был жизнеспособен исключительно постольку, поскольку на первых порах представлял собой свежую форму общегосударственного воспалительного процесса, временно облегчительную по той причине, что временно облегчительна всякая новизна. Но едва тот или иной режим исчерпывал ее соки, как начинал поедать самое себя, и тут уже было достаточно дуновения, то есть каких-нибудь предусмотрительно изрезанных барабанов, чтобы режим разлетелся в прах. Другое дело, что в этой системе закономерного возникновения и распада все-таки загадочной остается историческая насущность того, что за глаза обречено на почти немедленную погибель. Скажем, хордовые были насущны из видов нарождения позвоночных, и в какой-нибудь Старой Руссе завтра наверняка не введут распределение материальных благ по потребностям, ибо через двадцать четыре часа просто уже нечего будет распределять, а между тем два века тому назад свободно явились из небытия прогрессивные деяния Петра III, которые до того пришлись не ко времени и, значит, не ко двору, что его режим потерпел почти немедленное крушение. Пожалуй, покамест придется остановиться на том, что, как в природе, в истории человечества все некоторым образом законно предопределено, но не на тот манер, какой исповедуют астрологи, хироманты и прочие фаталисты, а через деятельность людей, обусловленную насущной необходимостью, каковая опять же вытекает из деятельности людей. Опираясь на это тривиальное и очень общее заключение, предварительно можно будет уговориться, что излом 1825 года, отчасти противозаконный, с точки зрения исторической логики, был предопределен в частности тем, что: домашние революции стали в России делом привычным, русский гвардейский корпус, как говорится, много о себе понимал, поскольку на протяжении целого столетия решал вопросы государственной власти как свои внутренние, полковые, сильно пал престиж самих венценосцев, которые частенько вели себя словно простые смертные и которых простые смертные бивали табакерками, резали и душили. В этом смысле особо влиятельным на поколение первых русских революционеров был заговор против Павла, своего рода заговор-призыв, так как и предание было очень свежо, и некоторые моральные условности оказались устранены по той причине, что к убийству отца-императора были причастны сыновья-цесаревичи, и еще бродила в крови удельная ненависть к владыке владык и его потомству, и, наконец, слишком соблазнительным был пример камерного устранения тирана дюжиной офицеров, которые забили живого бога, как содельники стукача. Словом, попытка государственного переворота 1825 года в технической части была обусловлена именно векторами исторического движения, унаследованными от восемнадцатого столетия, которые сошлись в точке 14 декабря по логике, закрепленной в русской пословице: «Кому суждено быть повешенным, тот не утонет». А впрочем, или логика глубиннее, мудренее, чем представляется поначалу, или пословица привирает, но многие известные висельники совсем не умели плавать, а среди утопленников было много сорвиголов. Скажем, Апполон Ушаков, которого обязательно повесили бы по делу Мировича, все-таки утонул, а Кюхельбекер, сухопутнейший из смертных, неоднократно тонувший в детстве, и не утонул, и не был повешен, хотя на Сенатской площади прицеливался в великого князя Михаила, а умер от менингита.
Однако и в области истории превращений, и в области той истории, которая представляет собой процесс накопления разного рода сил и постепенную реализацию их в ходе внутренней эволюции, малоперспективно искать ответ на вопрос, как делается история на уровне человека, и вот по какой причине: хотя композиции в обеих областях и очевидны, композитора не видать. Более того, чтобы доподлинно исследовать этот вопрос, отнюдь не достаточно разложить события 1825 года на микропроцессы вплоть до составных побуждения и поступка, ибо такой механический прием сулит самые механические заключения, вроде того, например, заключения, что первоисточником переворота, затеянного Мировичем, были его карточные долги. То есть, возможно, доискаться до исторической истины мыслимо только через расчленение событий на микропроцессы, но при этом необходимо скрупулезнейшим манером учитывать векторы той истории, которую подмывает назвать историей человеческого в человеке, или историей духа, идущей от первобытного осознания собственного «я» и имеющей своей целью какую-то конечную цель истории вообще, – возможно, достижение высшего духовного образа, как-то запланированного природой, которому предназначено осуществиться через исторические пути. Во всяком случае, не упускать эти векторы из виду следует потому, что результаты воздействия внешнеисторических раздражителей очень зависят от качества и количества человеческого в объекте воздействия, человеке, поскольку в силу дурного расположения духа какой-нибудь Иванов запьет, Петров засядет за триолеты, а Сидоров потянется к топору. Ясно, что ни одно из этих трех действий, взятое в отдельности, не предопределяет последующих событий общественного звучания, но в том-то все и дело, что сами по себе они ничего не предопределяют, а в сумме предопределяют, и если невозможно учесть бесконечное множество частных реакций на дурное расположение духа, вполне возможно вывести какой-то общий человекочеловеческий знаменатель, так сказать, удельный вес или, скажем, коэффициент духа, и, вычисляя при его участии энергию отношения, нащупывать самые зачаточные исторические причины. Наверное, это было бы ни к чему при исследовании событий Варфоломеевской ночи или движения диггеров, с которыми все более-менее ясно и без человекочеловеческого знаменателя: католики вырезали протестантов из политической выгоды и религиозных предрассудков, а диггеры захватывали земли потому, что хотели есть; но, имея дело с народом, постоянно дающим чудотворных людей, способных рисковать головой ради самых умозрительных идеалов и даже ради того, чтобы урезать свои собственные права, с народом, который далеко не всегда подчиняется чистой логике и частенько наживает глубоко иррациональные неприятности из-за того, что Аннушка пролила масло , – без коэффициента духа не обойтись. В этом смысле было бы неосмотрительно упустить из виду нравственное наследие восемнадцатого столетия.
С точки зрения событий 1825 года, позапрошлый век был, возможно, примечательней всего тем, что на него пришлось зарождение так называемого гражданского чувства, которое оригинально окрасило русский характер и кое-какие стороны российского бытия, поскольку именно в эту эпоху на нашу природную одухотворенность, некоторые формы нашей жизни, отдававшие азиатчиной, систему ценностей хлебопашца и прочие заветы святой Руси наложилась страсть к переводным идеям, общее стремление к переменам, строптивое национальное самосознание – словом, много чего нового, и эта диффузия качеств породила драгоценные, но удивительные черты. Среди них более чем легкомысленное отношение ко всяческим последствиям и расплатам, запечатленное в словах великого баснописца Ивана Андреевича Крылова насчет опасной картины, много лет провисевшей над его постелью, как говорится, на волоске; когда Ивану Андреевичу заметили, что эта картина в конце концов непременно свалится ему на голову и убьет, он объяснил, что даже если картина и свалится, то она, по его давнишним расчетам, при падении должна будет описать косвенную кривую и пролетит примерно в двух сантиметрах от головы. Тут же и народившееся неуважение к домашним авторитетам, по причине которого даже о такой несомненной величине, как Михаил Васильевич Ломоносов, можно было позволить себе сказать:
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Догадки - Вячеслав Пьецух», после закрытия браузера.