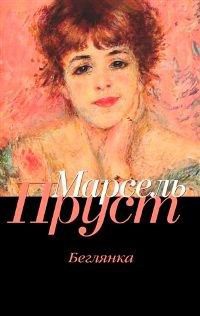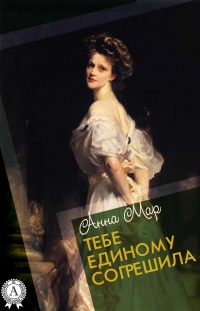Читать книгу "Вели мне жить - Хильда Дулитл"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
На следующий день картины, вместе с пшеничным полем, вернулись куда следует, и я благополучно забыла про Ивана. Постаралась выбросить его из головы, иначе я никогда не смогла бы забыть ту комнату.
Зато теперь я вспоминаю о ней без дрожи — ведь Белла сначала переехала вниз, потом и вовсе съехала.
А комната, как была, так и осталась. Я сижу сейчас у себя, в просторной, о двух дверях студии. Под скатом крыши стоит кушетка, крытая голубым покрывалом. Пол не вощёный — негде достать воск, зато в интерьере есть что-то голландское. На полированной столешнице плавает отражение: это розовая ветка в кувшине с картины Ван Гога — не самой известной, прямо скажем, его работы. Но мне почему-то вспомнилась именно она. А ещё раньше другая: опрокинутая корзина или горшок с маргаритками.
Вместе с воспоминанием об Иване в памяти всплывает рассказ. По-моему, он зародился в тот момент, когда я не поднялась к тебе в комнату. Впрочем, память здесь ни при чём — рассказ, наверное, жил в моём подсознании. Ван Гога держали в больнице неподалёку от Арля{122}. Выйдя оттуда, он продолжал писать — на грани помешательства. Одна из поздних его картин — пшеничное поле (он называл его «всходы»), где только-только начинают проклёвываться зелёные ростки. На переднем плане топорщатся жёсткие кустики. Вдали виднеется крыша фермы, похожая на плывущий по волнам корабль. Впрочем, нет, я пережимаю. Зачем объяснять живопись? Стоит только впасть в объяснение, и ты начинаешь писать рассказ. А на самом деле, всё должно быть иначе: пусть рассказ меня пишет, меня создаёт. Ты прав насчёт Великой матери, — Эльза сродни пшеничному полю. Эльза — Праматерь? Сложновато получается.
А если взглянуть твоими глазами, глазами Ван Гога? В тебе говорит талант. Тебя переполняет любовь. Так почему же стремление творить — пре-творить пшеничное поле, матерь богов — ставит тебя на грань безумия?
Силой таланта, силой гения (в древнеримском понимании этого слова){123} ты хочешь стать кипарисом. Ибо, раз воплотившись вживе в кипарисовом ли дереве, в матери ли, ты уподобляешься богу. Причём не по формальной классической схеме (меня отталкивает возведение отдельных личностей в ранг героев, героев в полубогов и т. д.), а в высоком смысле богопочитания, которому причастны были друиды с их солнечным кругом, составленным из камней. Ты говорил о тёмном боге, но, поверь, ничего тёмного в том нет. И пусть помешался Ван Гог на служении своему богу, но опять-таки, злого умысла не было.
Он мог бы бросить писать, выйдя из лечебницы. Но ведь почему-то не бросил! Он упорно писал всходы да ещё поле спелой пшеницы с кипарисами на заднем плане. Потом застрелился.
Если ты думаешь, что я не пришла к тебе из страха, ты глубоко ошибаешься: ничего подобного у меня и в мыслях не было. Я лишь настаиваю, чтоб ты писал, — писал, не отрываясь, как Ван Гог.
Оказавшись в этом краю, я поняла, что финикияне, о которых ты мне писал, оставили свой след не только в виде тропы, проложенной от шахты к морю. А друиды — не просто создатели священного круга камней. В следах и тех, и других уже читались и будущие Артур, и Тинтажель{124}, и Круглый Стол. Чья-то воля угадывается в рыцарях Круглого Стола — Мерлина? Впрочем, любые параллели и сравнения — это натяжка. Просто я только сейчас поняла, что ты — часть этого мира. Вернее, я только сейчас это припомнила.
Заметь, я вовсе не говорю о расовом сознании или переселении души и прочей мистике. Любые попытки объясниться только портят дело, и всё-таки я попытаюсь. Ведь именно это не давало нам сблизиться.
Понимаешь, мне не дано быть тебе матерью. Праматерь нужна мне не меньше, чем тебе.
Я держалась на расстоянии не только из-за твоего таланта. Безусловно, сила личности и литературная одарённость значат очень много, и всё-таки не в них одних дело. В том огромном романе, что ты послал мне, блистали крупицы благородного металла — золота ли, олова — словом, той субстанции, за которой финикияне когда-то плавали за тридевять земель. Увы, извлечь это богатство из твоей рукописи у меня не было ни сил, ни способностей. Но я всегда знала, что это произведение высокой пробы. Все твои сочинения таковы, даже если я с тобой спорю или не разделяю твоих убеждений. Я знаю: они отмечены печатью гения. В искусстве у тебя особая стать, и проявляется она, я полагаю, при сравнении твоего писательского кредо с принципами, которые в живописи исповедовал Ван Гог.
По-моему, это родство легко установить по отдельным фразам или строчкам из писем. А главное, вы схожим образом воспринимаете мир: вспомни опрокинутый горшок, корзину с маргаритками, наконец, истоптанные башмаки.
Как никто Ван Гог ощущал древний магнетизм земли и умел передать его в живописи. Мы видим, как ветер пригибает к земле его пшеничные колосья и они дрожат, и в этом трепете чувствуется не только страх перед стихией, но и ликование, и собственная сила.
В эпицентре циклона всегда покой.
Ты говоришь: «женщина женщиной, мужчина — мужчиной». Не знаю, что тебе сказать на это, а в то время не знала тем более. Но когда дело доходит до любви к кипарису или персиковому дереву, — любви в понимании Ван Гога, — всё приходит в движение, начинает жить. Жить как ребёнок, что вот-вот появится на свет, — говорила я про себя, сидя за столом, где горела свеча. Ван Гог сливается с кипарисом, приникает к цветущей фруктовой ветке, становясь с нею одним целым, и они светятся, они — gloire.
Поклонение природе здесь ни при чём, если только под природой не мыслится дух. Ты называл меня «живой душой», но ожила я лишь тогда, когда ты позвал меня: «Давай уедем». Мы и уехали: здесь, в этом краю, я живу тобой, претворяю тебя. Служу тебе, открывая тебя в каждой малой частице земли.
Будущее темно, и всё же войне скоро конец. Я уже без страха вспоминаю Лондон, мне уже снится старый дом и Иванова комната наверху. Я мысленно поднимаюсь по широкой лестнице, вхожу в коридор и толкаю деревянную дверь, а за ней — последняя, узкая лесенка. Я представляю, что за дверью в комнате спишь ты. Вспоминаю утро и твои слова: «Ты пела во сне. Я проснулся и понял, что плачу».
Нимфа на такси: кино версия «джазового» романа
Литературно биографический очерк
Многие читали роман Олдингтона «Смерть героя», или хотя бы слышали о нём. А если нет, то без труда найдут в библиотеке или в Рунете перевод 1961 года Норы Галь, благо издавался он в бывшем СССР десятки раз. Причина известности понятна: вместе с книгами Ремарка и «военными» романами 1920-х Хемингуэя, он образует своеобразный «триптих», посвящённый первой мировой войне. Однако, едва ли читатель догадывается, что история, рассказанная в «Смерти героя», послужила сюжетом для книги другого автора.
О том, что роман Олдингтона имеет автобиографическую подкладку, специалисты, конечно, «ведали», но не писали. В советское время полагали, что разбираться в биографической подоплёке произведений — всё равно что заглядывать в спальню через замочную скважину: неприлично! Литература подлежит серьёзному анализу в терминах борьбы направлений, классов, группировок. С этой «глобальной», как сегодня говорят, точки зрения, какое нам дело до того, что в «Смерти героя» Олдингтона за действующими лицами стоят определённые прототипы (разумеется, со всеми известными поправками на ироническую дистанцию между героями произведения и его автором)? Что Джордж Уинтерборн — это сам Олдингтон, Элизабет Пастон — Хильда Олдингтон, его первая жена-американка, на которой он женился в 1913 году и с которой развёлся в 1938-м, хотя расстались они гораздо раньше, ещё в 1917-м, Фанни Уэлфорд, подружка Элизабет, — это тоже реальное лицо, некая Дороти Йорк?
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Вели мне жить - Хильда Дулитл», после закрытия браузера.