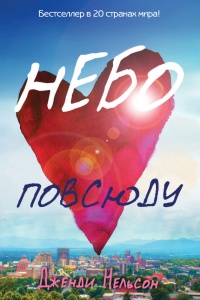Читать книгу "Мертвые хорошо пахнут - Эжен Савицкая"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Во вторую халупу, во сто крат меньше первой, войти он не смог. Там жили грызуны, едоки корней, бедняки, они плюнули ему в лицо соленой слюной.
Третья оказалась дворцом. В стойлах из чуть просвечивающих ледяных пластин спали рабы, медведи в намордниках, дойные северные оленихи, беззубые волки, ездовые собаки, лисы, дети, музыканты и певцы, альбиносы, старики, отвергнутые женщины — ели, пели хором, смеялись самые счастливые обитатели замка. И дыханием плавили намороженные ветром стены. В недрах дворца обитал самый печальный сеньор на свете. Под своей мантией он пригрел уйму собак, кобелей и сук, оленят, кукол, глиняных и лоскутных, маленьких мальчиков и девочек, куночек с розовыми и фиолетовыми прорвами, каких-то птиц с пышными хвостами, которые клюнули на его клей и он связал им лапы, сосунов, лизунов и подлиз, волков-переярков и малых лисят, снежных принцев, хмельных принцесс, белых грудей и бугрящихся лобков. Он любил головы и зады всех фасонов и форм. Кровоточащим и напичканным вернул его, обшмонав, Жеструа, бурчащим и полным бульона, со словами: не плачь, хватит хныкать, а не то посажу тебя в комнату слез. Когда он не блудил, излив всю слюну и сперму, сеньор брал кость из своих запасов и принимался ваять и рисовать птиц с острыми зубами, зубчатых, словно пила, золотых рыбок, гребенки, годные причесывать великанов и вырывать водоросли в глубинах протоков, мужиков с прорезью и девок с елдою. Когда он не блудил, истощенный и вялый, и уже не мог больше ваять и рисовать замерзшими, в крови и липкими от краски пальцами, он натягивал сапоги и выходил на охоту. Но белый медведь был куда как хитер, а морж прятался подо льдом, выглядывая лишь за глотком воздуха, и охотник возвращался без шкур, без моржовой кости, с мертвенно-бледной физиономией. Когда он не хотел выходить, и не мог больше рисовать, и у него не было кости, чтобы ваять, не было детей, чтобы их пялить, сеньор пил горькую. Когда же не мог больше ничего поделать, распахивал ледяную дверь и спускался в узкое и темное подземелье, чтобы послушать голос своей матери, ее крики отчаяния, ее вой, ее рыдания.
Стойло мамонта давным-давно пустовало.
В четвертой хибарке ютился ребенок. Его родители умерли от голода, и он съел их тела. Жеструа принялся ласкать дитятю. Под его ласками ребенок запел. Он пел голосисто и громко:
Мертвые пахнут березой
Свежестью пахнут и краской
Можжевельником пахнут
Влажным лесом
и копченой рыбой
Мертвые хорошо пахнут.
Голова мертвых утопает в солнце
Уста сухи и сладки
Уши полны меда
и шафрана.
В мертвых укрываются ежи и побитые дети, чуть вздремнув, роют буравцами в черном сахаре галереи, приходят в пещеры, понарошку плачут, обсы
хают и выпивают, потом выходят на воздух.
Мы любим наших мертвых, едим их.
Наши мертвые пахнут укропом и любистоком.
Мы любим в них прятаться, любим играть с ними и пить то, что вытекает у них из сердца и затопляет нас.
Голос мертвых наполняет нас ароматом.
Мертвыми примем мы всех от рождения мертвых детей и подышим на их тела, чтобы они пробудились и стали настоящими львятами с бахромой над глазами и смеющейся мордой.
Мертвые, покатимся на повозке, и от скрипа колес разбегутся волки, богатые, будем владеть медными рудниками, драгоценными залежами и стадами китов.
Мертвыми нас съедят.
Жеструа покинул рыбью страну, шел в запахе снега. Он съел первое яблоко из сумы, счастливый, что у него осталось еще два, одно другого вкуснее.
Огромная пасть рыбины захлопнулась, сглатывая мрак, и рыба растворилась в сольце. В декабре Жеструа спал.
В январе Жеструа приблизился к краям куда богаче, где воздух пропах свиньей в хлеву, великим кабаном, владыкой мира, зверем с крохотными влюбленными глазками, безмятежно валяющимся на ложе из палой листвы и веточек калины, головой на блюде каштанов, с фиалками в носу, с драгоценными жемчужинами, пальцами детей-побродяжек, с пробивающейся в грязных ушах почти черной петрушкой, винными пятнами, ранками от укусов, с зеленым навозом в заду: он страдал несварением, он пробрался в огород, как гурман пощипал цветы, так пусть же теперь он подохнет, а кровь его стечет в кувшин, мы взболтаем ее большой ложкой, будем пахтать сколько понадобится, чтобы взбить наших херувимчиков.
Под дубами, в окружении огромных негаснущих костров, был воздвигнут стол, покрыт скатертью с тысячью змеек, уставлен большими, словно мельничные жернова, блюдами, тарелками с голубой и золоченой каемкой, наполненными копотью, еще горячим гипсом, готовыми проклюнуться почками, языками, волосами, нежными пористыми камнями, нагретыми слабосильным солнцем, перьями, и, среди кубков и тарелок, разложены книги, ибо гости любили за едой читать, перелистывая страницы крохотным серебряным пинцетом, и кисти с чернилами, ибо гости за едой писали и рисовали фрукты, те, что они любили на вкус, и те, которых в глаза не видели, красивые, насквозь в песчинках, фрукты в форме капли воды, начиненные косточками и готовой взлететь напитанной живностью. В солонке кемарили две молодые псины, остальные глодали да грызли. Из одного кубка, с жадностью, закрыв глаза, пили два брата. Снег падал на огненные накидки, на рукава, кишащие гнидами и гадюками, на их цветочки, на ресницы, пальцы, на перламутровые, черные, опаловые, точеные ногти: млады в мехах своих тигры.
На свободе, красуясь длинным зимним ворсом, молочным своим мехом, разгуливали генеты, шарили языком в поисках лакомств под листами бумаги, в груде костей и шкур. Тут же поили парня, которому отрубили руки, застав их под юбкой у его же меньшой сестры, и он, не открывая глаз, хлебал напиток с отдушкой, сторожко процеживал жидкость между зубов, сплевывал странные горькие косточки, складывал под языком толченое стекло и щепки бамбука, стенал, проклиная дотошность своих палачей. Но ярый яд жестоко скрутил его позвонки, взбурлившая кровь разорвала на висках, на щеках и на шее венулы. В последний миг он вспомнил о своих пальцах и о чудесных перстнях, что их кольцевали, и ему захотелось кусать костяшки пальцев и ладони. Захотелось царапаться. Ему хотелось рисовать, писать. Он соскользнул со своего сидения как красивый голубой с розовым лоскут, и его, перед тем как сжечь, раздели. Парнишка был садовником; у него под ногтями копошились земляные козявки. Ему случалось писать стихи на стенах отхожего места. Кончиками пальцев играл он с моими сосками и наполнял мой сосуд маслом. Я изопью его прах, растворив в своем молоке.
Допив свое молоко, сестра его умерла, и ее на несколько дней оставили увядать в постели — синеть, темнеть, смердеть, раздуваться, деревенеть. Десять могильщиков возлегли б на красивый труп, осквернили бы и поимели, прежде чем предать земле, коли б ее не оставили ссохнуться.
Жеструа пригласили сесть на место почившего. Подсунули какую-то книгу. Заставили эту книгу открыть, наполненную зловонием, горечью и паразитами, ибо сделана она была из чистой бумаги и недосушенных кроличьих шкурок. Всё равно шелковистые, волоски скребли сухую бумагу, и от шороха переворачиваемых страниц язык Жеструа корчился и ворочался, словно хотел забиться в нору. Толстая бумага отнюдь не сообщала книге твердость. Толщина дряблой книги обескуражила Жеструа. Двести диких кроликов было поймано в зеленой с прожелтью рощице, пока они играли в пятнашки под землей и среди кустов. Двести диких кроликов было убито двумястами ручными хорьками, и те высосали из них кровь до последней капли. Охотник подобрал трупики и ободрал с них шкурки. Двести шкурок было растянуто под солнцем и дождем. Со стороны меха, нужно было устранить волоски, чтобы обнаружить слова, как траву на поле, где ты потерял дорогие кости. Со стороны кожи, писали раскаленным добела стилетом, и по кабинету писателя, который раздевался для работы до трусов, расходился дым, пропитанный запахом смерти. На бумаге — нанкинской тушью, тонюсенькой кисточкой из мышиной шерстки и тонко заточенными на камне перьями. Двести кроликов не успели толком вскрикнуть. Они умерли все разом, рожденные в один год. Их ободранные тушки несколько дней висели на крючьях, потом мягко сползли с них, и собаки, зебристые, тигровые, черные как тень, сожрали их, зверюги покрупнее уносили в пасти по пять-шесть малых братьев. Вместо того чтобы читать, Жеструа, пообвыкнув к запаху, прохаживался по страницам носом, терся о волоски и кожу, чихал, кашлял, смеялся, отменная книга, сладкая книга, гнездилище шершней и муравьев. От книжного запаха он захмелел и свалился со стула. Его усадили обратно. Отвесили три подзатыльника, чтобы читал. Заставляли книгу глотать, кожа за кожей. Первая же пережеванная и проглоченная страница наполнила его желудок горечью.
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Мертвые хорошо пахнут - Эжен Савицкая», после закрытия браузера.