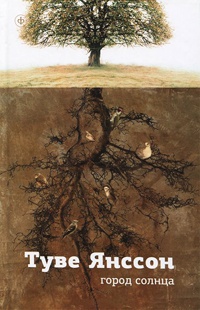Читать книгу "Город на заре - Валерий Дашевский"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Эти несчастные жертвы оставались брошенными на снегу, поднимались, пока хватало сил, потом падали без чувств, не получая ни от кого ни слова утешения, ни малейшей помощи. Мы шли безмолвные, опустив голову, и останавливались только, когда наступала ночь. Измотанные усталостью и нуждой мы должны были искать еще если не пристанища, то по крайней мере укрытия от северного ветра. Мы бросались в дома, амбары, под навесы, в любые строения, встречаемые в пути, и через несколько секунд сваливались таким образом, чтобы нельзя было больше ни войти, ни выйти. Те, кто не успевал туда проникнуть, располагались снаружи. Их первой заботой было обеспечить себя дровами и соломой для бивуака. Взбираясь на дома, они срывали крыши, выламывали балки, перегородки, несмотря на сопротивление тех, кто в них находился. Если люди не желали покидать занятое помещение, они рисковали погибнуть в пламени. Очень часто те, кто не мог проникнуть в дома, поджигали их. В большинстве случаев это происходило со старшими офицерами, когда они захватывали дома, выгнав тех, кто пришел раньше.
Вскоре вместо того, чтобы располагаться в домах, их стали разбирать до основания, а полученные материалы растаскивать по полям. Возводя отдельные укрытия, люди разводили костры для обогрева и приготовления пищи. Обычно готовили каши, разогревали галеты, поджаривали на огне куски конины.
Каша была самой распространенной едой. Так как невозможно было достать воду, в котелке растапливали необходимое количество снега. Затем в полученной таким образом черной и грязной жидкости растворяли порцию грубой муки и ждали, пока эта смесь загустеет до состояния каши, которую приправляли солью или, за неимением ее, высыпали два или три патрона, что удаляло излишнюю пресность, а заодно и подкрашивало, делая ее очень похожей на черную похлебку спартанцев. Конину готовили так: разрезали ее на полоски, присыпали их порохом и раскладывали на углях.
Покончив с едой, все вскоре засыпали, подавленные усталостью и удрученные тяжестью своих бед, чтобы начать назавтра снова такую же жизнь».
Отступление Наполеона к Березине, как и самый российский поход императора, я, безусловно, считаю торжеством российской администрации и ее апофеозом.
Руки, кожей напоминавшие вощенную бумагу, жили упорно, вопреки всему — безостановочно, бессильно и бесцельно шарили по одеялу, приминали атлас в мягком сиянии лампы под шелковым абажуром, под которым на столешнице в беспорядке были сдвинуты фотографии в тонких серебряных рамках, гарднеровский подсвечник поднос с пузырьками лекарств и порошками в облатках — рассыпанных, нетронутых, ненужных. Бритый подбородок полковника задрался, утонула в подушке седая, стриженая бобриком голова, веки сморщились в считанные часы и теперь, полуприкрытые, блестели влагой; рот запал, проступила лепка лица; но дыхание, хрипло-прерывистое, отчетливо слышалось в тишине спальни. Тишина царила и в зале и в прихожей. Ронял золотые, маслянистые отблески маятник, бесшумно ходивший за стеклом часов. Дом на Немецкой улице — где в гостиной мебель была забрана в чехлы и фамильные портреты завешены, а в библиотеке с большим кожаным диваном выцвели литографии с видами Амстердама, Антверпена и английскими скаковыми лошадьми, где еще недавно от калориферов шло приятно обволакивавшее тепло, помогавшее переносить боли в суставах и журнал «БЫЛОЕ» раскрытым лежал на шотланском пледе, и коробка с папиросами была под рукой, где итальянское окно, выходившее в старый сад, горело заполночь, где в последние дни раздавались деликатно-приглушенные голоса и осторожные шаги прислуги за дверью, от которой уже шел запах тления — как в чаду, стоял в предгрозовых лиловеющих сумерках, быстро наливавшихся чернотою, замерший, и, как часовня, обособленная от земных дел и забот — ибо полковника уже соборовали. Хмурый доктор, в минуты раздумий неприятно хрустевший пальцами, уставший дожидаться агонии, отбыл — спустился с крыльца и зашагал, опираяясь на трость и поглядывая на меркнующее небо. Под липами он приостановился, поджидая пожилого священника с сырым некрасивым лицом.
— А согласитесь, батюшка, что спасти чью-то душу проще, чем бренную плоть, — без особой доброжелательности заметил он, точно продолжая давний диспут. — Трудясь бок о бок с вами, в меру отпущенных сил и разумения, в который раз убеждаюсь в сием. Дело ваше вернее моего, тем паче, что пребываете вы в блаженном неведении относительно результата. Ну-с, не хотите ли проехаться до нашей матери-церкви?
— Благодарствуйте, я пешком, — ответил священик.
— Как угодно, — сухо сказал доктор.
Коснувшись полей шляпы, он поднялся в пролетку, сел — ерзая на оси, она покатила вниз, к Мироносецкой площади, где уже горели газовые фонари. Туда же направился священник, торопясь, превозмогая усталость — навстречу праздной публике, гулявшей в Университетском саду, а теперь спешно возвращавшейся Монастырским переулком; студенты, барышни, служащие страхового общества «Саламандра», Московского купеческого, Земельного, Азово-Донского банков шли от Пассажа и Карповского ряда. Священнику попадались молодые приказчики, рабочие, золоторотцы, хлынувшие из питейных заведений Сумской, и ветер, по-осеннему холодный, гнал пыль со стороны Николаевской площади — возвышенности, застроенной помпезными зданиями Дворянского собрания, гостиницы «МЕТРОПОЛЬ». Слышно было конку, а затем пробили городские часы, сработанные в Париже Борелем и установленные Эдельбергом в колокольне Успенского собора; тоскливыми показались священнику витрины, голубой газ фонарей, пустевшая на глазах улица. Тучный, коротконогий, отвыкший от быстрой ходьбы, он потел, шел тише, чтобы унять одышку и, чувствуя, как прыгает сердце, невольно вспомнил о полковнике. Неужели затем, чтобы умереть возвратился в родной город этот нестарый человек, не сделавший карьеры при Генеральном штабе? Но думать об этом — означало попытаться постичь Промысел, и, завидя церковь, священник ускорил шаг.
На Немецкой улице, тем временем, готовились к грозе: запирали окна, спускали шторы, гасили электричество и подносили огонь к фитилям керосиновых ламп; дворники прятали в парадные плетеные стулья, на которых вечерами сидели обывательницы, да вязали старые немки; под хлещущим ветром гнулись разросшиеся липы, грохотала ломовая телега и печально, тревожно шелестел старый сад за стеной с встроенной в нее полуциркульной калиткой. Вот в небе грохнуло, разорвалось и полыхнуло в низкой мгле над золоченым куполом Успенского собора. И тогда из тени лип выступил некий господин — давний кошмар полковника. Прижимая подмышкой кожаную папку с бумагами, он толкнул калитку, вошел в сад, огляделся, с удовольствием вдыхая разреженный прохладный воздух, слушая, как первые капли шуршат в кустах боярышника; неторопливо взошел на террасу, придирчиво оглядел свой костюм — собравшийся гармошкой цветной жилет — прошел в гостиную, оттуда — в спальню полковника. Не выпуская папку, он сел прямо на постель умиравшего; легко и развязно потряс его за плечо, привскочил, помогая ему сесть — лысый, коренастый, со стриженой курчавившейся бородкой и необыкновенно живыми глазами. Мгновенье полковник разглядывал его, пристально и брезгливо, как в былые дни, но сейчас кадык натужно ходил на горле и видно было, как под рубахой бьется сердце. Адвокат отошел на середину спальни, и, оглядев полковника, покачал головой.
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Город на заре - Валерий Дашевский», после закрытия браузера.