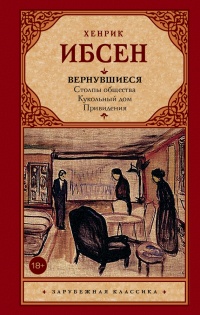Читать книгу "Монашка к завтраку - Олдос Хаксли"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Кейн, подавленный, молча следует за Астоном. Сэр Джеспер замыкает шествие. Его физиономия выражает свойственную ему немного скучающую насмешливость. Зажигает сигарету.
Сэр Джеспер. Чудесный вечер, чудесный вечер… Теперь, когда он окончен, я и не знаю, был ли он вообще.
Выходит. В оранжерее становится пусто. Вспыхивают пестики цветков. Глаза асафетиды важно моргают. Листья дрожат, раскачиваются и шуршат. Кое-кто из цветов потихоньку усмехается, а алокузия, иронически присвистнув, напоследок громко и по-восточному смачно икает.
Занавес медленно опускается.
[118]
Когда (лет эдак через пятьдесят) внуки спросят меня, что я делал в Оксфорде в те далекие времена наступавшего чудовищного нашего века, я оглянусь, всматриваясь во все более необозримую бездну времени, и (с совершенно чистой совестью) поведаю им, что никогда меньше восьми часов в день не работал, что проявлял живой интерес к общественной деятельности и что кофе был самым крепким напитком, каким я себя взбадривал. А они (весьма справедливо) спросят… впрочем, надеюсь, это до моих ушей не дойдет. Вот почему я намереваюсь как можно скорее засесть за мемуары, до того, как успею все перезабыть, с тем чтобы, имея правдивое свидетельство перед глазами, во времени грядущем я никогда не оказался способен (сознательно или неосознанно) рассказывать враки о самом себе.
В данный момент у меня нет времени писать полный отчет о том решающем этапе в истории моей жизни. А потому должен довольствоваться описанием одного-единственного случая из времен моей учебы в университете. Его я выбрал потому, что он занимателен и одновременно целиком отвечает духу оксфордской жизни накануне войны.
Мой приятель Лайкэм заработал себе оплаченное обучение в колледже Толстонога[119]. В этом парне сочетались кровь (он невероятно гордился своим англосаксонским происхождением и тем, что его фамилия образована от староанглийского слова «lycam», означавшего «труп») и мозги. Вкусы у него были чудаковатые, привычки – прискорбные, круг познаний – неохватный. Поскольку ныне он покойник, то о его нраве я больше ничего говорить не стану.
Продолжаю рассказ о том случае. Однажды вечером, как то у меня было заведено, я зашел к нему в его обитель у Толстонога. Было самое начало десятого: когда я взбирался по лестнице, колокол Большой Том еще гудел.
как некогда гласила прелестная в своей глупости присказка, и в этот вечер колокол был верен ей, оглашая все вокруг глубочайшим басом своих напористых «бим-бом-бим-бом», которые составляли поразительно неблагозвучный фон для звуков неистовой игры на гитаре, доносившихся из комнаты Лайкэма. По тому, как яростно рвал он струны, я понял, что произошло нечто, не идущее ни в какое сравнение с обычными для него катаклизмами, поскольку милосердию было угодно, чтобы Лайкэм касался гитары только в моменты величайшего душевного волнения.
Я вошел в комнату, зажав ладонями уши.
– Ради Бога… – взмолился я. В раскрытое окно лился бас-профундо Тома в ми-бемоль, расходившийся волнами полутонов и обертонов, тогда как гитара визгливо тараторила в чистом ре. Лайкэм рассмеялся, отшвырнул гитару на кушетку с таким неистовством, что все струны разом издали дрожащий стон, и бросился мне навстречу. Сердечно (и довольно болезненно) хлопнул меня по плечу, все лицо его просто светилось радостью и волнением.
Я способен сочувствовать людской боли, но не людскому довольству. В чужом счастье есть нечто до странности скучное.
– С тебя пот градом льет, – холодно заметил я.
Лайкэм отерся, но по-прежнему лыбился во весь рот.
– Ну, и что же на сей раз? – спросил я. – У тебя опять предсвадебная помолвка?
Лайкэма прямо-таки распирало от восторженной радости человека, который наконец-то обрел возможность снять с себя бремя гнетущей тайны. В ответ он выкрикнул:
– Куда лучше, чем это!
Я застонал.
– Полагаю, какой-нибудь амурчик, более неказистый, чем обычно. – Я знал, что за день до этого приятель мой побывал в Лондоне: настоятельная необходимость посетить зубного врача явилась оправданием того, что пришлось остаться там на ночь.
– Давай без грубостей, – произнес Лайкэм с каким-то нервическим смешком, который подтвердил, что мои подозрения весьма и весьма основательны.
– Что ж, послушаем про прелестницу Флосси, или Эффи, или… каким бы именем ее ни нарекли, – смиренно согласился я.
– Я говорю тебе: она богиня.
– Богиня благоразумия, я полагаю.
– Просто богиня, – не унимался Лайкэм, – самое чудесное существо, какое я только видел. Необычайно то, – прибавил он доверительно и со злонамеренной гордостью, – что сам я, выходит, своего рода бог.
– Палисадников. Впрочем, давай-ка обратимся к фактам.
– Я расскажу тебе все как есть. Было так. Вчера вечером я был в городе, ты знаешь, и пошел посмотреть первоклассную пьесу, которую поставили на Принц-Консорт[121]. Такое оригинальное сочетание мелодрамы и проблемной пьесы, которая пробирает тебя до самых костей и одновременно внушает добродетельное чувство, будто ты посмотрел нечто серьезное. Так вот, я закатился довольно поздно, заранее обеспечив себе прелестное местечко в первом ряду бельэтажа. Протопал через публику и мельком заметил сидевшую рядом девушку, перед которой я извинялся за то, что отдавил ей ногу. Весь первый акт у меня о ней и мысли не было. В антракте, когда снова дали свет, я стал обозревать окрестности в целом, и тут мне открылось: рядом со мной сидела богиня. Стоит только на нее взглянуть, и сразу поймешь: богиня. Она была совершенно неправдоподобно прекрасна: довольно бледна, безупречна и стройна и одновременно весьма величественна. Я не в силах описать ее, она попросту совершенство – и больше тут ничего не скажешь.
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Монашка к завтраку - Олдос Хаксли», после закрытия браузера.