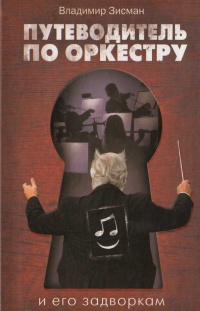Читать книгу "Джордж Оруэлл. Неприступная душа - Вячеслав Недошивин"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Записки Оруэлла – это не роман «Дни в Бирме»: документальный репортаж, живое свидетельство «собачьего существования». Ау, Хемингуэй и Фицджеральд! Оруэлл писал всё как есть и, кстати, не очень и надеялся на публикацию. Больше скажу: когда потом, через пару лет, все издательства откажутся печатать «Фунты лиха», он забросит рукопись знакомой с наказом прочитать (если захочет), а потом уничтожить. За ненадобностью. Похоже, не верил он в справедливое устройство даже «литературного мира». Известность в литературе – это все-таки зачастую великая случайность!
Я говорил уже, что Оруэлл вроде бы просто описывал жизнь, а жизнь, читающаяся между строк этого дневника, невольно «описывала» его. Так вот, бедность, нищета доконает в Париже воспитанного итонца, вычерпает до донышка и корректность его, и манеры, и даже простое человеческое сочувствие. И если сначала он удивлялся приметам нищеты, манерам и ухваткам этого мира, то, поварившись в этой среде, заметил, что и сам меняется в худшую сторону. Когда он перейдет в еще один ресторан, где будет работать плонжером уже по семнадцать часов в сутки, где времени будет не хватать и на то, чтобы «полностью раздеться перед сном», он поссорится даже с другом Борисом; они, как пишет, уже через неделю будут общаться только «сквозь зубы». Про остальных и говорить нечего. Он натурально терял человеческий облик. И если раньше обзывали его, то теперь уже он крыл всех вокруг последними словами. Он, джентльмен, даже повариху, в общем-то, несчастную женщину, уже через месяц звал просто «клячей», а когда она просила подать ей, к примеру, кастрюлю, орал, удивляясь на себя, вдогонку: «По шее тебе дам, старая шлюха, а не кастрюлю!..» Да, друзья, да: «Сначала хлеб, а нравственность – потом!» – это Бертольт Брехт, помните? И это еще «приличный» перевод фразы. К Оруэллу теперь подошел бы другой, от грубости которого и я в свое время дрогнул: «Сначала жратва, а мораль – потом». Тут один шаг не только до плевка в суп… Так что правда не просто в деталях, она еще – в нюансах чувственных…
Погиб бы он в трущобах Парижа? Не знаю. Но когда он получил из Лондона письмо от своего приятеля, что в Англии есть работа для него репетитором – присматривать за «врожденным дебилом», – он не только с жаром откликнулся на него, но почти мгновенно уволился. Беги, Кролик, беги! – хочется присвистнуть ему вслед литературной аналогией…
Вопрос из будущего: А первый день «освобождения» помните?
Ответ из прошлого: Сразу же лег спать и спал почти сутки. Затем впервые за полмесяца… вымылся, сходил постричься, выкупил одежду. И два дня восхитительного безделья. Я даже… посетил наш «Трактир» – небрежно прислонившись к стойке, кинул пять франков за бутылку английского пива. Прелюбопытно заявиться праздным гостем туда, где был последним из рабов…
В.: А тот парень, который выжимал тряпку в суп, – он еще работал? Он реальная фигура? Ведь такого не забудешь…
О.: Это был венгр, смугловатый и быстроглазый… очень болтливый… Сладчайшим воспоминанием Жюля был эпизод, когда одному дерзкому клиенту он выплеснул за шиворот горячий суп… Рубя воздух взмахами кулака… подстрекал меня к бунту: «Брось ты швабру, не дури! Мы… бесплатно не работаем, мы не проклятые русские крепостные!.. И… не забывай – я коммунист!..»
В.: То есть «мир – это война»? И в подвалах, и наверху общества?
О.: Инстинктивное желание навеки сохранить ненужный труд идет просто из страха перед толпой. Толпа воспринимается как стадо, способное на воле вдруг взбеситься, и безопаснее не позволять ей от безделья слишком задумываться… Плонжер – раб… И культурные люди, от которых должны бы идти помощь и сострадание, внутренне одобряют его рабство, так как ничего про сегодняшних рабов не знают и потому сами их опасаются…
Вот оно – пока чувственное, не умственное объяснение мира. Оруэлл воспринимал еще жизнь будто бы с «чистого листа». Он как бы смахивал с доски цивилизации все фигуры; дескать, начнем партию с начала, аb оvо, «с яйца». Да и то сказать: само это латинское выражение, «ab ovo usque ad mala», в переводе на русский – «от яйца до яблок», означает – не удивительно ли? – отношения, если хотите, первых господ мира и первых… «официантов», рабов, ибо у свободных латинян как раз с яиц начиналась любая трапеза. Это факт. Вот и Оруэлл, танцуя «от печки», то бишь от ресторана, пытался разобраться, что из чего «вытекло»: нещадная эксплуатация – из «разумной цели» или цель – из эксплуатации? Словно до него не было ни первобытных восстаний, ни борьбы классов, ни Фейербаха с Марксом и Лениным, ни даже Джека Лондона с его «Железной пятой»… Но так – от простейшего чувства справедивости – развивалась мысль и начиналась эволюция взглядов этого мятежного юноши; все-таки юноши еще. Но он придет к социалистическим убеждениям. Это тоже, представьте, факт! Считанные годы оставались до фразы, что он был и останется «за демократический социализм». Правда, опять своенравно добавит: «Как я его понимал»…
5.
Вad egg – «испорченное яйцо». Есть такое выражение в Англии. Называя так человека, британцы подчеркивают: это белая ворона, человек не от мира сего. А Оруэллу, который и был «испорченным яйцом», как раз и предстояло начинать жизнь, если хотите, «с яйца», заново. Опять сначала…
В книге «Фунты лиха» он напишет, что получил не только письмо из Англии от приятеля про работу репетитором, но и присланные ему пять фунтов. Кто был этим «приятелем», и существовал ли он вообще, – неясно. «Несудоходно». В книге говорится лишь, что с репетиторством в Лондоне ничего не вышло – и всё «разом рухнуло…».
На деле не рухнуло пока ничего. Более того, в родительском доме в Саутволде, где он, с перерывами, проживет пять лет, будущее после парижских страданий рисовалось ему чуть ли не раем. «Фантазия, – пишет, – рисовала ему гуляние по сельским тропам, сбивание тросточкой цветков, жаркое из ягненка, пирог с патокой и сон в простынях, благоухающих лавандой».
На деле в Саутволде его ждали изодранный «кокосовый половичок» на пороге, печь на кухне с коленом трубы, которое вечно забивалось сажей, разваливающаяся мебель, сыроватая столовая, «полотенца размером с носовой платок», всюду развешанные матерью, и – комната отца, «пропитанная особым стариковским запахом». Старый Блэр, как и священник в будущем романе Оруэлла «Дочь священника», становился с годами всё более «сложным» человеком: то есть по пятницам, в «рыбный день», ел не какую-нибудь треску или сельдь, а лишь дорогую, «соответствующую ему» рыбу. Возможно, этим и гордился в любимом гольф-клубе, куда по-прежнему ходил, за что мать Оруэлла костерила мужа почем свет, сидя за очередной партией в бридж с подругами.
Так ли всё было в жизни – не знаю, но похоже, что так. После Парижа сам Оруэлл то ли ходил, то ли хотел ходить по местным магазинчикам «аристократично», то есть «небрежной походкой, рука в кармане», и чтобы на лице была «безучастная джентльменская гладь», хотел, как усвоил натвердо, чтобы никто никогда «не платил за твою выпивку». Попробовал рисовать, завел мольберт и краски и уходил с ними в поля или на берег моря. Катался на велосипеде, а иногда и на прокатных лошадях. А однажды почти два часа плавал в холодном море, когда не захватил купальный костюм (тогда подобный «костюм» включал в себя даже майку), голышом. Конфуз заключался в том, что стоило ему залезть в воду, как на берегу возникла какая-то компания, которая возьми да и расположись у самой кромки. И Эрик плавал до посинения, пока зеваки не удалились. Впрочем, здесь меня удивила не столько его стеснительность, сколько «стеснительность» (да ханжество, ханжество!) поздних издателей его. Историю эту он описал одной знакомой, но когда, уже в наше время, эти письма публиковали, то редакторы выкинули ее по «моральным соображениям». Ну негоже выставлять классика голеньким! С такими издателями ему и придется иметь дело.
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Джордж Оруэлл. Неприступная душа - Вячеслав Недошивин», после закрытия браузера.