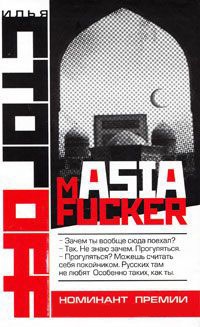Читать книгу "Южный календарь - Антон Уткин"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Наверное, она тоже сейчас смотрит телевизор или слушает радио и там говорят о том, что Филевская линия метрополитена парализована, потому что под поезд бросился мужчина, – теперь это точно установлено, – что от станции метро «Багратионовская» пущены дополнительные автобусы и движение понемногу налаживается. Сколько за эти два года было других девушек, сколько я починал бесплодных связей, лета своя изживша во прелести, и всем говорил всякую всячину. Иногда правду. Дарил цветы. Это приятно не только девушкам. А тебе я могу подарить цветы только в день рождения. Ты же замужем. Твой муж приветливо со мной здоровается. Ему это будет неприятно. Я сам был мужем. Я не хочу его расстраивать.
И то верно, малыш. Прав был Павел наш Брейгель. Наблюдать непогоду, слоняться по сумеречным комнатам и поглядывать в мокрые от дождя окна совсем не то, что самому участвовать в этом беззлобном бунте природы. Вот идешь ты, как мы сейчас, лепит снег, потоки ветра обтекают тебя, мгла застит взор, и наплевать тебе на все предписания и воззвания, если, конечно, ты не идешь под влиянием одного из таких воззваний. А если идешь под его влиянием, значит, оно того стоит. А если не стоит, то ты ошибаешься. А ошибки приводят к прозрениям. А я, малыш, давно уже не ошибался.
И Брейгель все думал и думал, почему он никак не может задать один простой вопрос, досадовал и не находил ответа, и снова блуждал взглядом по нескончаемому склону.
Мысли и воспоминания упорядочились; их стало можно листать, как книгу. Как альбом. Или как дневник. И, листая, Брейгель увидел с тоскою, что оценки в нем, в этом дневнике, все больше неважные. Особенно по поведению. Особенно по метафизике. А еще больше абсолютно пустых страниц: никто не вызывал, сам не просился. Хотел открыть Огненную Землю, а открылась сберегательная книжка, усмехнулся он про себя. Да-а, неважный, Брейгель, у тебя дневник, подумал он. Сжечь бы его, подумал он, как тот мальчишка. Сжечь. Есмь бо яко древо сухо, стояще при пути…
Брейгель коротко глянул на малыша. Хорошо, малыш, что ты не знаешь, о чем я сейчас думаю. Мои мысли были бы тебе непонятны и испугали бы тебя.
Как же это все началось? Совсем незаметно, как начинается сама жизнь. У меня нет того единственного воспоминания, когда видеть и слышать тебя сделалось моей потребностью. Я не помню, какого цвета у тебя глаза.
Скоро ты сменишь работу, и я забуду твой голос. Буду помнить только его цвет – лиловый, льняной. Мы будем знать друг о друге, но едва ли созвонимся. Может быть, однажды, спустя год, два. Как-нибудь. Да будет уже и ни к чему. А это жалко. Потому что только тогда, когда раз в семилетие входит в надир ко всем заблуждениям ума голубая звезда Толиман, – только тогда расцветает на берегу заснеженной реки волшебный папоротник и тихо светит вокруг крохотной оранжевой точкой, и горит недолго, и видят его не все.
Прошлое тогда недоступно сожалению, золою лежит на углях. В душе языков, сколько бы их ни знал, на каком бы ни думал, гнет всего сослагательного теряет свое могущество и уступает его непререкаемой власти свершаемого и совершенного, обретая свободомыслие подмалевка. Можно тогда протереть небо до звездного блеска, собирать их, звезды, как спелые ягоды и складывать в капюшон алмазными углями. Только смотри, малыш, стоит отвести от них взгляд, прожгут они твой колпак, да и улетят себе обратно.
И Брейгель испугался, что минута, непостижимая с земли, прошла, потух огонь, истекли секунды. Но минута пока не проходила и длила себя во всей своей широте. Даже не прибавляя себе частиц, она умножалась ликованием и полнилась радостью, как круглый снежный ком, раскручивая землю с запада на восток. И идти становилось все легче и просторнее, хотя смутная тропка по-прежнему была узка и извилиста. И заточение его в ее колее было исчислено.
Но как скажу тебе о том, имея деревянный ум, войлочный язык и мысли, как отрепья от пакли? А может, и не надо ничего говорить. Ведь я же тебя придумал. Я вообще-то выдумщик, усмехнулся Брейгель. Аще есмь не мудр, а в премудрых ризу облачихся, а смысленных сапоги носил есмь.
Наверное, зачем-то так надо, умиротворенно думал Брейгель. Зачем-то ведь ехал когда-то какой-то Павел Брейгель мимо неопалимой уссурийской купины, и вот теперь через сто лет еще какие-то Брейгели идут в одиночестве, в пустоте и безмолвии.
Под мутными и все-таки высокими небесами разница между Брейгелями исчезла, стала незначительной – просто у одного из них был в руках скрипичный футляр, а у другого руки были свободны. И словно бы вокруг них самих сложился тоже футляр – соткалась оболочка из пара, дыхания, мыслей, тех редких слов, которыми они обменивались, и хранил их в пути, и легкие блики неуловимыми летучими молниями очерчивали в его внутренности пределы допустимого и давали понять, что без них самих, Брейгелей, его несущих, во всем обозримом явился бы некий ущерб.
Сколько нужно было поколений, пронеслось у Брейгеля в голове, сколько людей, к которым, пожалуй, не испытываешь никаких родственных чувств, должны были родиться и умереть разными смертями, пережить, передумать несуразицы, переделать пустяков, мелко ссориться, крупно ошибаться, и все для того, чтобы сейчас два абсолютно незнакомых им человека, о которых они не имели никакого понятия, свершали странное шествие по задворкам большого города.
И стоило об этом подумать, все стало легко и просто. Весь мир теперь умещался в одном взоре. И дальше этих очертаний, которые он вмещал, представить что-либо было невозможно и нельзя, как если бы они служили границами огромной картины, отделяющими совершенно другой, непостижимый уже мир. Вот река. Вот древний лес, кажущийся суровым, на самом же деле облеченный всей нежностью и меланхолией послуживших парков. Справа на противоположном берегу реки темнеют строения, прикрытые рубищем снега, щели сочатся светом; ограждение, наполовину плетеное, наполовину сколоченное из досок, прочно цепляется за луговину. Вот в ограде провал, обращенный к реке, и сквозь него видна часть двора, орошенная криво подвешенным фонарем в конусообразном рефлекторе; снег влетает под него серебристыми перьями; золотится влажная солома, сбитая ворохом у столба под навесом, и уже тускло, в благостном изнеможении, мажет светом по яслям. Вот еще несколько шагов – и коридор воды, как половик, пересекает ровная желтая полоса. Полоса лежит неподвижно, и только края ее немного сморщены течением, и так и тянет перебежать по ней, как по мосткам, смотреть лошадей. Потому что в провале ограды то появляется, то исчезает, ходя по кругу, маленькая невзрачная чалая лошадка и в красных рейтузах на ней – девочка-подросток. И снова пропадает свет, остается позади, а прямо перед ними акварельной линией рассвета, нанесенной походя прерывистой кистью, тянется магистраль, и ее сосредоточенный шум, как ожерелье звуков, на нее нанизанное, остается на одном месте. А за нею, на семи холмах, растет город, и там где-то сидит она, окруженная несметным количеством электрических лучей, не очень важных удобств, ест яблоко, смотрит на свою тень, стесняется своих мыслей, а о чем думает – неизвестно. Вот Брейгель-младший, ничегошеньки еще не знающий о том подъесауле, который тоже любил кататься на коньках, ни о том, какие измышления бродят в голове его спутника. Там, за спиной, человек, который бросился под голубой состав метро. Это должно было пугать или угнетать, но Брейгель при мысли об этом неизвестном человеке чувствовал почему-то прилив радости. И еще отчего-то ему представлялось, что у этого человека непременно должен был быть с собою желтый кожаный портфель, который он прижал к груди в момент падения под стальные колеса поезда.
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Южный календарь - Антон Уткин», после закрытия браузера.