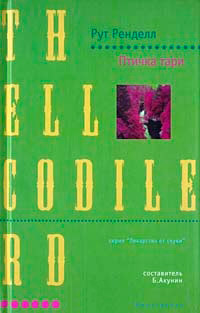Читать книгу "Бильярд в половине десятого - Генрих Белль"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– Я это сделаю, Роберт. Я стану орудием господа, терпения у меня хватит, время для меня ничего не значит, и я знаю, что хлопушки с порохом бесполезны; порох должен быть заключен в свинец; я буду мстить за последнее слово, которое слетело с невинных уст моего сына, за слово "Гинденбург", единственное, оставшееся после него в мире. Я должна стереть это слово с лица земли. Неужто мы только для того родим детей, чтобы они умерли через семь лет, прошептав перед смертью имя Гинденбурга?
Я порвала листок со стихотворением и выбросила на улицу клочки бумаги; Генрих был такой аккуратный мальчуган, он молил достать ему копию, но я отказалась, я не хотела слышать из его уст эту чушь; в бреду он пытался восстановить в памяти строчку за строчкой, а я затыкала уши, но все равно слышала: "Господь да пребудет с тобой", я пыталась вызволить его из бреда, разбудить, заставить посмотреть мне в глаза, взять меня за руки, услышать мой голос, но он продолжал шептать: "Покуда немецкие рощи растут, покуда немецкие флаги цветут, покуда немецкое слово звучит, не будет наш Гинденбург нами забыт"; меня убивало, что и в бреду он делал ударение на слове "наш". Я собрала все игрушки в доме, твои тоже, хотя ты громко заревел, и сложила их на одеяле Генриха, но он так и не вернулся ко мне, даже не взглянул на меня, Генрих, Генрих! Я кричала, молилась, шептала, но он ушел в страну кошмарных сновидений, где ничего не осталось, кроме одной-единственной строки; только эта одна строка жила в нем: "С Гинденбургом вперед! Ура!". Последнее слово, слетевшее с его уст, было "Гинденбург".
Я должна отомстить за оскверненные уста моего семилетнего сына; неужели ты меня не понимаешь, Роберт? Я должна отомстить тем, кто ездит верхом мимо нашего дома, направляясь к памятнику Гинденбурга; после смерти за ними понесут венки с золотыми, черными и лиловыми лентами; я спрашивала себя: неужели Гинденбург никогда не умрет? Неужели мы вечно будем видеть на почтовых марках этого буйвола, чье имя стало для моего сына всем? Ты достанешь мне ружье?
Я ловлю тебя на слове; пусть это будет не сегодня и не завтра, но все же скоро; я наберусь терпения, неужели ты не помнишь твоего брата Генриха?
Когда Генрих умер, тебе было уже почти два года, мы держали тогда собаку по кличке Бром, ты ее вряд ли помнишь; Бром был такой старый и мудрый, что боль, которую вы ему причиняли, не вызывала в нем злобы, а только грусть; вы, сорванцы, изо всей силы цеплялись за его хвост, и пес тащил вас по комнате, помнишь Брома? Цветы, которые тебе надо было положить на могилу Генриха, ты выбросил из окна кареты; мы оставили тебя, не доезжая кладбища, мы разрешили тебе сесть наверх, на козлы, и подержать вожжи, они были черные, кожаные и потрескались по краям. Вот видишь, Роберт, ты помнишь и собаку, и вожжи, и брата, и… солдат, солдат, бесконечные шеренги солдат; ты ведь помнишь все это; они поднимались вверх по Модестгассе, сворачивали у отеля к вокзалу, волоча за собой пушки; ты сидел у отца на руках, и отец говорил:
– Война кончилась.
Плитка шоколада стоила триллион, потом конфета стоила два триллиона, пушка стоила столько же, сколько полбуханки хлеба, лошадь – столько же, сколько яблоко, цены все росли, а потом у людей не осталось ни гроша, чтобы купить самый дешевый кусок мыла; это не могло хорошо кончиться, да они, Роберт, и не хотели вовсе, чтобы это хорошо кончилось; люди все шли и шли через Модестские ворота и устало сворачивали к вокзалу; все было благопристойно, вполне благопристойно, и они несли перед собой знамя с именем главного буйвола – Гинденбурга; буйвол до последнего вздоха заботился о порядке. Ведь правда он умер, Роберт? Мне все еще не верится!
Герой! Для тебя наши бьются сердца,
А славе героя не будет конца.
С Гинденбургом вперед! Ура!
На почтовых марках у этого буйвола с отвислыми щеками был такой вид, словно он призывает к единению; уверяю тебя, он еще доставит нам немало хлопот, он еще покажет, куда ведет благоразумие политиков и благоразумие богачей; лошадь стоила столько же, сколько яблоко, конфета стоила триллион, а потом у людей не осталось ни гроша, чтобы купить себе кусок мыла, но порядок был незыблем, я все это видела своими глазами, и я слышала, как они выкрикивали его имя; он был глуп как пробка, глух как тетерев, но насаждал порядок; все было прилично, вполне прилично. Честь и верность, железо и сталь, деньги и разоренная деревня. Осторожно, мальчик, там, где над пашнями подымается туман, где шумят леса, – там принимают "причастие буйвола", будь осторожен!
Не думай, что я сумасшедшая, я хорошо знаю, что мы находимся сейчас в Денклингене; вот дорога, она вьется меж деревьев вдоль синей стены и поднимается до того места, где ползут желтые автобусы, похожие на жуков; меня привезли сюда потому, что я морила голодом твоих детей, после того как порхающие птицы умертвили последнего агнца; шла война, время исчислялось по производствам в очередной чин, ты ушел на фронт лейтенантом, но за два года дослужился до обер-лейтенанта. Ты все еще не стал капитаном? Для этого тебе понадобится не меньше четырех лет, может быть, даже шесть, а потом ты станешь майором; прости, что я смеюсь; смотри, как бы от твоих формул у тебя не зашел ум за разум, сохраняй терпение и не пользуйся привилегиями; мы не едим ни крошки сверх того, что выдается по карточкам; Эдит согласна со мной: ешь то же, что едят все, надевай то же, что надевают все, читай то же, что читают все, не принимай ничего сверх положенного – ни масла, ни платьев, ни стихотворений, ничего, что тебе предлагает буйвол, пусть с самым изящным поклоном; "и правая их рука полна подношений"; все это не что иное, как взятки, данные под тем или иным соусом. Я не хотела, чтобы твои дети пользовались привилегиями, пусть они почувствуют вкус правды на своих губах. Но меня увезли от детей; этот дом называется санаторием, здесь сумасшедших не избивают, здесь тебе не станут лить холодную воду на голое тело и не наденут без согласия родственников смирительную рубашку, надеюсь, вы не согласитесь, чтобы мне ее надели; мне позволено даже выходить, если я захочу, потому что я не опасна, нисколько не опасна, но я, мальчик, не хочу выходить, я не хочу глядеть на этот мир, не хочу снова и снова сознавать, что они убили затаенный смех отца, что скрытая пружинка в скрытом часовом механизме лопнула; отец вдруг начал принимать себя всерьез; он стал таким торжественным; ведь он нагромоздил целые горы кирпичей, срубил много лесов на стройматериалы и уложил столько бетона, столько бетона, что им можно было бы забетонировать Боденское озеро; такие, как он, строя, хотели забыться, для них это было вроде опиума; трудно себе представить, сколько может понастроить за сорок лет архитектор; я щеткой счищала следы известки с его брюк и гипсовые пятна с его шляпы; положив голову ко мне на колени, он курил сигару, и мы без конца повторяли, как причитание: "Помнишь ли ты… Помнишь ли ты, как в тысяча девятьсот седьмом году… как в тысяча девятьсот четырнадцатом году… как в двадцать первом году, как в двадцать восьмом году, как в тридцать пятом году…" И в ответ на этот вопрос мы вспоминали либо какое-нибудь сооружение, либо чью-нибудь смерть; помнишь, как умерла мать, помнишь, как умер отец, Иоганна, Генрих? Помнишь, как я строил аббатство Святого Антония, церковь Святого Серватия и Бонифация, церковь Модеста, дамбу между Хайлигенфельдом и Блессенфельдом, помнишь, как я строил монастырь для белых братьев, и монастырь для коричневых братьев, и санаторий для сестер милосердия; каждый мой ответ, казалось, звучал как молитва: "Господи помилуй!" Отец строил одно сооружение за другим, и одна смерть следовала за другой; он стал рабом им же самим созданной легенды, его держал в плену им же выдуманный ритуал; каждое утро он завтракал в кафе "Кронер", хотя охотнее посидел бы с нами, выпил бы кофе с молоком и съел кусок хлеба, он прекрасно мог обойтись без яйца всмятку, без гренок и без этого отвратительного сыра с перцем, но он уже начал думать, что не может без них обойтись; он сердился, если не получал крупного заказа, а ведь раньше было иначе: он радовался, когда получал заказ, понимаешь? Все это очень сложная математика, особенно когда тебе под пятьдесят или под шестьдесят и ты стоишь перед выбором: либо ты должен справить нужду на собственный памятник, либо взирать на него с благоговением; здесь не может быть никаких компромиссов. Тебе минуло тогда восемнадцать, Отто – шестнадцать лет, и мне было страшно за вас; я стояла вместе с вами наверху в беседке и зорко глядела вокруг, словно вещая птица. Когда вы были младенцами, я носила вас на руках, когда вы стали маленькими детьми – держала за руку, а когда вы переросли меня – стояла с вами рядом; я наблюдала за жизнью, которая проходила внизу: все бурлило, люди дрались и платили триллион за конфету, а потом у них не было трех пфеннигов, чтобы купить себе булочку; я не желала слышать имени их "избавителя", но они носили этого буйвола на руках, наклеивали марки с его изображением, без конца повторяли, словно причитая: приличия, приличия, честь, верность, "побежденные и все же непобедимые", порядок; он был глуп как пробка и глух как тетерев; внизу, в конторе отца, Жозефина проводила маркой по влажной губке и наклеивала на письма его портреты всех цветов; а мой маленький Давид спал; он проснулся только после того, как ты скрылся, лишь тогда он понял, как опасно бывает передать из рук в руки пачку денег, собственных денег, завернутых в газетную бумагу, – это может стоить человеку жизни; лишь тогда он увидел, что от его сына осталась одна оболочка; верность, честь, приличия – он понял цену всему этому; я предупреждала его насчет Греца, но он говорил мне:
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Бильярд в половине десятого - Генрих Белль», после закрытия браузера.