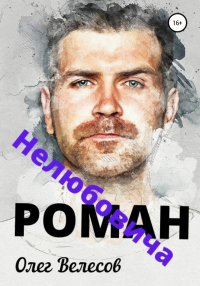Читать книгу "Чай со слониками - Вячеслав Харченко"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
А дальше я и не знаю, что произошло. Лера приехала поздно. Долго не могла запарковаться. Понаставят, уроды, что влезть негде. В итоге приткнулась за квартал. Шел мерзкий, холодный, гнетущий осенний дождь. Морось била в лицо, забиралась под одежду, холодила кожу, приходилось то и дело протирать очки. Зонта у Леры не было, а я не додумался выйти со своим, боялся, что кто-нибудь увидит нас вместе. Когда она вошла и разделась, мы пошли на кухню. Я достал бутылку французского бренди и нарезал брауншвейгской колбасы. Мы выпили. Лера удивительно быстро набралась, сползла на пол, взяла мою ладонь в свою руку и с каким-то напряженным сопением стала говорить: «Я люблю тебя, Гарик, как я люблю тебя, Гарик», – а я стоял с ней, сидящей на полу, рядом и не знал, что ответить, потому что не ожидал от нее такого. Мы двенадцать лет встречаемся, а тут такое. Я смотрел на ее потекшую тушь и думал: «Это все, это все, надо разбегаться». И Лера эту мысль почувствовала, резко поднялась и быстро пошла к двери. Я еще неделю читал ее почту, но потом Лера сменила пароль.
Сейчас, а мне теперь шестьдесят, я думаю, что Лера всегда знала, что я читаю ее почту, и нисколько этому не противилась, а даже, наоборот, считала это знаком особой близости, особых отношений, любви.
Любу с кем-то перепутали. Когда она позвонила в старинную Люблинскую музыкальную школу, расположенную на Летней улице в усадьбе Дурасово, и хотела назначить день встречи, то чей-то звенящий раздраженный голос резко перебил ее:
– Мы же уже договорились. Вы приезжаете к пяти и все снимаете.
Она осторожно положила телефонную трубку, взяла видеокамеру, завернула ее в полосатую черно-белую сумку, когда-то кожаную, а теперь затертую до проплешин, и, насвистывая что-то веселое, кажется «Истамбул-Константинополь», закуталась в белый, модернистски пожеванный плащ и пошла радостная по весенней пробуждающейся от зимнего сна улице в Люблинский парк.
Желтая дворянская усадьба с белым куполом и такими же, то ли белыми, то ли бежевыми колоннами, с домашней церковкой и золотым, блестящим в лучах майского солнца крестом над головой, виднелась среди еще голых коричневых деревьев, сквозь которые бил яркий оранжевый солнечный свет, отчего вид окружающего пространства был библейский. Так сквозь витражи католических храмов льются на мозаичный пол теплые пропыленные лучи, так восходит раннее красное солнце, касаясь из-за горизонта розовыми стрелами еще холодного, но уже отступающего ночного неба, так после долгой зимней спячки рождается новая жизнь, просыпаются букашки, поют прилетевшие птахи и орут ошалевшие коты.
В дверях ее встретила молодящаяся женщина в художественном сиреневом беретике крупной вязки и, немного помявшись и вжавшись в косяк, пропустила Любу внутрь и проводила в пустую музыкальную комнату, где стоял раскрытый рояль. В ожидании преподавателя и ученика женщина для вида предложила гостье чая, но так как ожидала, что Люба откажется, то Люба покачала головой и, усевшись с краю на стул, стала подготавливать камеру к съемке: жать на кнопки и устанавливать необходимые режимы.
Через десять минут в коридоре раздались негромкие шаги, и в зал вошла высокая беловолосая женщина в просторном желтом платье, что казалось странным, так как фигура у нее была ладная, а платье скорее скрывало фигуру, чем подчеркивало ее красоту, но этой женщине думалось, что так, наверное, лучше, или в жизни у нее не было рядом человека, который бы все ей объяснил. За женщиной в комнату проник мальчик, и мальчик этот был, как говорят, «с ограниченными возможностями» – с огромным широким лбом и удивленными бровями, похожий на фарфоровую китайскую куколку, с вечно улыбающимися, смеющимися раскосыми щелочками глаз.
«Бедный малыш», – подумала Люба.
Женщина внимательно осмотрела Любу, с благоговением взглянула на камеру и, представившись Еленой Сергеевной, обернулась к мальчику и произнесла:
– Васюта, садись за рояль.
Мальчуган радостно залез на стул, поднял крышку, положил пальцы на клавиши и приготовился слушать преподавателя.
– Ки-сю-ня, – пропела женщина.
«До-ре-ми», – сыграл мальчик.
– Ки-сю-ня, – более высоко пропела беловолосая.
«Фа-соль-ля», – взял мальчик.
– Ки-сю-ня, – заулыбалась женщина и погладила Васю по голове.
Мальчик засмеялся: «До-ре-ми».
Любаша тихонько сидела в уголке и, не шевелясь, снимала эту странную женщину и мальчика, камера то выхватывала лицо Васюты, то спину женщины, то переходила за окно, где с той стороны стекла, на жестяном отливе, сидели три горделивых голубя, наверное, в ожидании крошек хлеба, которые им обычно давали сотрудники музыкальной школы.
Неожиданно Васюта заиграл что-то необычайно сложное и вместе с тем легкое, как радостная птичья песня. Женщина стояла рядом, положив мягкую пухлую ладонь ему на плечо, как близкая родственница. Прическа ее растрепалась, и непослушная прядь выбилась на ровный мраморный лоб с едва заметными поперечными морщинами.
Звуки то упирались прямо в потолок, то расползались по углам комнаты, а потом вдруг, собравшись в единое целое где-то в центре, разлетались в разные стороны и казалось, что сейчас произойдет что-то совершенно важное. И этот мальчик-инвалид, и эта милая женщина отринут плоть, воспарят, словно неведомые разноцветные переливающиеся птицы, и обретут свободу, такую важную и нужную им.
Казалось, весь мир для мальчика превратился в звук. И Любаша, и видеокамера, и преподавательница – все это были звуки, которые он своими детскими, но уже умелыми руками осторожно вытаскивал из глухих черно-белых клавиш. Васюта раскачивался на стуле, полузакрыв глаза, с блаженной улыбкой на лице.
В том месте, где Васюта сбивался, преподавательница помогала ему, громко и нараспев пропевая неверные ноты: «Ки-сю-ня», – и мальчик начинал снова, стараясь больше не допустить ошибки и не сбиться.
Иногда казалось, что для мальчика не существует ничего кроме музыки: и Любаша – это музыка, и птицы за окном – это ноты, и яркий весенний свет – это плохо уловимые волновые вибрации, которые мы не можем никак различить, а он, такой нескладный и фарфоровый, легко переводит в чарующую мелодию.
P.S.
При монтаже фильма работники наложили другую звуковую дорожку, и все эти кисюни пропали, но Любаша ходила по дому и шептала вслух:
– Ки-сю-ня.
– Господи, что ты там шепчешь, – спрашивал ее муж, но Люба только обнимала его со спины, упиралась острым подбородком в его уже начавшую лысеть голову и пела:
– Ки-сю-ня.
Огромные слезы-серьги, длинные, серебряные, с черным налетом висюльки, болтались на ее нежных ушах. В самом центре сверкал голубоватый фианит, и грош цена была этой бижутерии, но Света любила серьги, а я ненавидел, потому что они достались от бывшего мужа.
Я много раз незаметно прятал серьги. То бросал в дальний угол бежевой вместительной прикроватной тумбочки, то засовывал под свою аляповатую смятую подушку, то порывался выбросить их в окно, но не решался этого сделать. Даже не из-за скупости, а потому что Света искренне их любила, то ли не замечая моих мучений, то ли, наоборот, специально вызывая их. Ведь ей казалось, что ревность – это важное чувство, подкидывающее время от времени дровишки в наш то и дело затухающий семейный костерок.
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Чай со слониками - Вячеслав Харченко», после закрытия браузера.