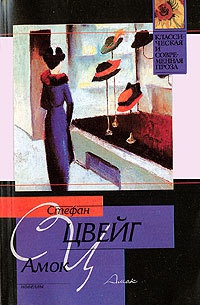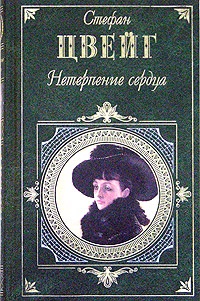Читать книгу "Кристина Хофленер - Стефан Цвейг"
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Это крик утопающего, пронзительный и уже полузадушенный; голос внезапно захлебывается в потоке слез, она сотрясается в безудержных рыданиях.
– Не надо, – просит он, растроганный против своей воли. – Не плачьте! Не надо!
И чтобы успокоить, машинально привлекает ее к себе. Она податливо и как-то вяло и грузно приваливается к его груди. В этой податливости нет радости, только бесконечное изнеможение, невыразимая усталость. Ей хочется всего лишь прислониться к живому человеку, чтобы чья-нибудь рука погладила ее по голове, чтобы не чувствовать себя такой беспомощной, такой ужасно одинокой и отверженной. Постепенно она успокаивается, судорожные рыдания переходят в тихий плач.
Инженеру весьма неловко. Он, посторонний мужчина, стоит здесь в тени деревьев, всего в двадцати шагах от отеля (в любую минуту их могут увидеть, кто-то пройдет мимо), и держит в объятиях плачущую девушку, ощущая теплое колыхание прильнувшей к нему груди. Его охватывает жалость, а жалость мужчины к страдающей женщине всегда проявляется в нежности, пусть и невольной. Только бы успокоить, думает он, только бы успокоить. Левой рукой (за правую Кристина все еще держится, чтобы не упасть) он, как гипнотизер, гладит ее по голове. Потом, наклонившись, целует волосы, затем виски и, наконец, дрожащие губы. И тут у нее бессвязно вырывается:
– Возьмите меня с собой, заберите меня… Уедем отсюда… куда хотите… куда хочешь… только чтобы не возвращаться… не возвращаться домой… я этого не выдержу… Куда угодно, только не домой… Увезите, куда вам захочется, на любое время… Только увезите! – В лихорадочном возбуждении она трясет его, словно дерево. – Возьми меня с собой!
Инженер испуган. Надо прекратить, думает этот человек практического ума, быстро и решительно прекратить. Как-нибудь подбодрить и отвести в отель, а то дело становится неприятным.
– Да, деточка, – говорит он. – Конечно, деточка… не нужно только спешить… мы всё непременно обсудим. До утра есть еще время подумать… может быть, ваши родственники тоже сожалеют и примут иное решение… завтра нам все покажется яснее.
– Нет, не завтра, нет! – настаивает она. – Завтра я должна уехать, рано утром, совсем рано… Они выпроваживают меня… отправляют, как почтовую посылку, срочную, быстро-быстро… А я не позволю, чтобы меня вот так отсылали… не позволю… – И, вцепившись в него еще крепче: – Возьмите меня с собой… сейчас же… сейчас… помогите мне… я… я больше не вынесу.
Пора кончать, размышляет инженер. Только ни во что не ввязываться. Она не в своем уме, не сознает, что говорит.
– Да, да, деточка, – гладит он ее по голове, – само собой разумеется, понимаю… мы обо всем сейчас там поговорим, не здесь, здесь вам нельзя больше оставаться. Вы можете простыть… без пальто, в тонком платье… Идемте, сядем в холле… – Он осторожно высвобождает свою руку. – Ну пойдемте, деточка.
Кристина пристально смотрит на него. Она вдруг сразу перестала всхлипывать. В состоянии охватившего ее отчаяния, когда рассудок не способен что-либо воспринимать, она не расслышала, что он говорит, и ничего не поняла, но ее тело почувствовало, что теплую нежную руку боязливо убирают. Тело первым поняло то, что с испугом только сейчас уловил инстинкт, а за ним осознал и мозг: этот человек покидает ее, он струсил, он опасается, что все здесь хотят ее отъезда, все. Опьянение прошло, она очнулась. Собравшись с духом, она сухо и отрывисто говорит:
– Благодарю. Благодарю, я дойду сама. Извините за это минутное недомогание, тетя права, высокогорный воздух на меня плохо действует.
Он хочет что-то сказать, но Кристина, повернувшись к нему спиной, уходит. Лишь бы не видеть больше его лицо, никого больше не видеть, никого, прочь, прочь, не унижаться больше ни перед кем из этих высокомерных, трусливых, сытых людей, прочь, прочь, ничего у них не брать, никаких подарков, не заблуждаться на их счет, не позволять им себя обманывать, никому из них, никому, прочь, прочь, лучше околеть, лучше сдохнуть где-нибудь в темном углу. Она входит в обожаемый отель, в любимый холл и, проходя мимо людей, как мимо каких-то наряженных, размалеванных фигур, испытывает лишь одно: ненависть. К нему, к каждому здесь, ко всем.
Всю ночь Кристина неподвижно сидит у стола. Мысли угрюмо кружат вокруг одного и того же: все кончено. Острой, отчетливой боли нет, осталась лишь какая-то оцепенелость, но что-то с ней самой происходит, она смутно ощущает подобие боли, как ощущают на операционном столе в первую минуту анестезии жгучее прикосновение ножа, рассекающего тело. Ибо, пока она сидит, уставившись взглядом в стол, с ней происходит то, что не осознается еще оцепеневшим рассудком: другое, поддельное существо, та нереальная и все же реальная фройляйн фон Боолен, жившая девять сказочных дней, сейчас в ней отмирает. Она еще сидит в комнате, принадлежащей той, другой, и телесная оболочка ее пока что другая – с ниткой жемчуга на застывшей шее, с ярким мазком кармина на губах, облаченная в любимое, почти невесомое вечернее платье, но вот уже легкий озноб пробегает от него по коже, оно кажется чужеродным на ней, как простыня на трупе. Ничто здесь, ничто из этого высшего, счастливого мира больше не подходит к ней, все опять, как и в первый день, чужое, полученное взаймы. Рядом стоит кровать с чистым, отглаженным бельем, с нежными пуховиками – тепло и нега в цветочках, но Кристина не ложится в постель: она больше не принадлежит ей. Блестит мебель, тихо дышит ковер, но все это окружение из латуни, шелка и стекла она больше не воспринимает как свое, как перчатку на руке и жемчуг на шее, – все принадлежит той, другой, той убитой «двойнице», Кристиане фон Боолен, каковой она больше не является и тем не менее остается. Вновь и вновь пытается она отделиться от своего искусственного «я», возвращаясь к настоящему, заставляет себя думать о матери, больной или уже мертвой, но, как ни насилует она себя, ей не удается вызвать в душе ни тревогу, ни боль: лишь одно чувство переполняет ее – злоба, глухая, судорожная, бессильная злоба, которая не может вырваться наружу и ропщет взаперти, беспредельная злость – она не знает на кого: на тетку, на мать, на судьбу, – злость человека, которого обидели. Истерзанной душой она чувствует только, что у нее что-то отняли, что из счастливой, окрыленной она снова должна превратиться в ползающую по земле слепую гусеницу; что-то миновало, и миновало безвозвратно.
Всю ночь сидит она на деревянном стуле, окаменев в своей злости. Сквозь обитые двери до ее слуха не доносятся звуки другой жизни, продолжающейся в этом доме, – безмятежное дыхание спящих, стоны любовников, кряхтение больных, беспокойные шаги страдающих бессонницей; сквозь закрытую балконную дверь она не слышит предрассветного ветра, овевающего сонный дом, она ощущает только себя, свою одинокость в этой комнате, этом доме, этом мире, себя – кусочек живой, трепетной плоти, еще теплый, как отрубленный палец, но уже бессильный и бесполезный. Идет жестокое медленное умирание, частица за частицей застывает в ней и отмирает, а она сидит недвижно, будто вслушиваясь в себя: когда же наконец перестанет стучать в ней горячее сердце ван Боолен.
Спустя тысячу лет наступает утро. Слышно, как в коридорах начала уборку прислуга, как садовник шаркает граблями по гравийным дорожкам; начинается неизбежно реальный день, конец, отъезд. Пора собирать вещи и съезжать, пора стать прежней – почтовой служащей Хофленер из Кляйн-Райфлинга – и забыть ту, чье дыхание маленькими незримыми волнами касалось здесь утраченных отныне драгоценностей.
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Кристина Хофленер - Стефан Цвейг», после закрытия браузера.